Отрицающий подросток – Эпатажное поведение подростков
Эпатажное поведение подростков
В переходном возрасте поведение ребенка может резко измениться. И нередко в этот период подростки шокируют окружающих своим эпатажным поведением.
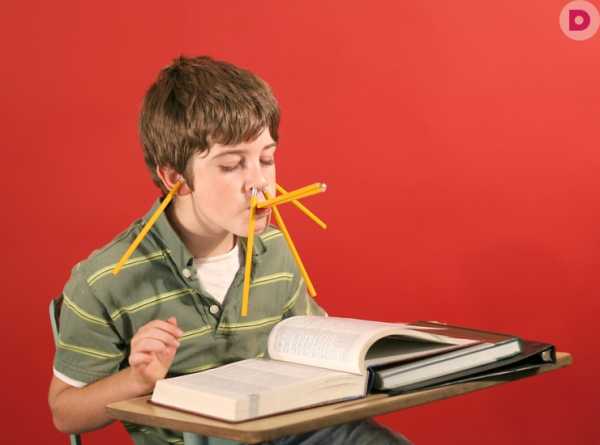
Эпатажное поведение подростков
Например, подросток может выкрикивать что-то неуместное на уроках, вызывающе вести себя на улице и в общественных местах. Внешне это поведение чем-то напоминает детскую непосредственность дошкольника, но понятно, что в отличие от малышей, подростки ведут себя так вполне осознанно. Что же стоит за подростковым эпатажем? На самом деле, это один из способов решения сразу нескольких возрастных задач.Отрицание норм и правил, проверка их на прочность
Под влиянием воспитания с раннего детства ребенок привыкает жить в определенной системе норм, правил поведения и традиций. У него практически не возникает вопроса о происхождении этих правил и для чего они нужны, ему вполне достаточно того, что так сказала мама или учительница. Подросток же начинает подвергать сомнению каждое правило, обесценивать и отрицать любые ограничения. «Нельзя громко смеяться – а если попробовать? Нельзя разговаривать с учителем неуважительно – а я попробую, посмотрим, что будет» и так далее. Подросток бросает вызов системе, созданной взрослыми и не имеющей личного смысла для него самого, он как будто специально делает все назло. На самом деле, это необходимый этап в развитии самосознания человека, на основе этого отрицания и пересмотра ценностей подросток постепенно формирует собственную систему координат. Причем вовсе не обязательно, что эта система будет противоположной тому, что он так активно отрицал. Это вовсе не означает, что в таком случае нужно позволять подростку грубить и вести себя нагло. Просто необходимо понимать, что запретами, наказаниями и приказами тут уже ничего не добиться, причина «потому что я так сказал» вызывает лишь бурный протест подростка. Каждую из норм и правил нужно объяснять, а то и вместе с сыном и дочерью формулировать их заново.
Привлечение внимания, завоевание авторитета среди сверстников
Еще одна важная тема для подростка – общение со сверстниками. В этом возрасте становится очень важным иметь группу, где тебя принимают, а лучше – где ты являешься лидером, авторитетом для других. Эпатажное поведение оказывается неплохим способом завоевания такого авторитета. Каждый «безбашенный» поступок добавляет очков в копилку подростка, его статус в глазах сверстников повышается. Ведя себя развязно и вызывающе, подросток чаще всего работает на публику. Многое зависит от особенностей самого коллектива, где подросток пытается самоутвердиться – что ценится в этом коллективе, считается «крутым».
Евгения Лепешова
Психолог
Если подростки начинают вести себя нагло, вызывающе, переходить рамки, это, прежде всего, говорит не о самих юношах и девушках, а об уровне развития коллектива, а значит меры должны быть направлены именно на развитие коллектива.
Ощущение взрослости
Через эпатажные поступки подросток начинает ощущать себя более взрослым, что также очень важно в этом возрасте. «Это я пока был маленьким, боялся, а сейчас говорю все, что думаю!» — примерно так обозначает подросток этот водораздел. И чем меньше у подростка реальных возможностей для демонстрации своей взрослости, тем больше он будет пытаться доказывать ее смелыми и неоднозначными поступками. Когда же родители и педагоги готовы меняться вслед за развитием ребенка, предоставлять ему больше ответственности, обсуждать проблемы из позиции «на равных», у подростка не возникает необходимости в эпатажном поведении.
Когда ребенок вступает в переходный возраст, родители часто оказываются в определенном воспитательном тупике. Прошлые приемы не работают, подросток ведет себя все более нагло, напряжение в отношениях растет. И в этот момент очень важно вместо того, чтобы усиливать его, сесть и подумать, что же происходит с ребенком, что скрывается за маской эпатажного поведения. И уже исходя из этого искать новые подходы к общению. Помните, что бурный период обязательно пройдет, и все встанет на свои места!
domashniy.ru
«Отрицать невозможное — значит отрицать себя». Диалог взрослого и подростка

Не переживай насчет своих способностей. Ты способен любить. Этого достаточно.
***
Технологии не спасут человечество. Его спасут люди.
***
Вероятность твоего рождения была величиной, стремящейся к нулю, оно было фактически невозможно. Так что отрицать невозможное — значит отрицать себя.
***
В твоей жизни будет 25 000 дней. Живи так, чтобы какие-то из них запомнились.
***
Счастье не где-то там, оно здесь.

Новые технологии — это то, над чем ты посмеешься через 5 лет. Цени то, над чем через 5 лет смеяться не будут. Любовь, например. Или хорошее стихотворение. Или небо.
***
Ты не самое умное существо во Вселенной. Ты даже не самое умное существо на своей планете.
Тоновый язык в песне горбатого кита сложнее всех работ Шекспира, вместе взятых. Жизнь — не соревнование. Хотя вообще-то соревнование. Но забей на это.
***
Не будь холоден к людям. Холода во Вселенной и так хватает. Важно то, что согревает.
***
Никто ни в чем не бывает прав до конца. Никогда.
***
Каждый из нас смешон. Если люди смеются над тобой, они просто не понимают шутки, которой являются сами.
***
Всё имеет значение.
***
Тебе подвластно время. Его можно остановить при помощи поцелуя. Или музыки. Музыка, кстати, позволяет видеть то, что иначе никак не увидишь. Это самое прогрессивное, что у вас есть. Это суперсила. Не бросай бас-гитару. У тебя хорошо получается. Найди себе группу.
***
Время от времени будут случаться скверные вещи. Хорошо бы кто-то всегда был рядом.
***
Слушай голос разума. Слушай свое сердце. Доверяй своему чутью. Главное — не выполняй ничьих приказов.

Когда образуется черная дыра, мощнейший всплеск гамма-излучения ослепляет целые галактики и уничтожает миллионы миров. Ты можешь исчезнуть в любую секунду. В эту. Или другую. Постарайся как можно больше времени посвящать занятиям, за которыми ты был бы счастлив умереть.
***
Никто тебя не поймет. Но — по большому счету — это не важно. Важно, чтобы ты сам себя понимал.
***
За вежливостью часто прячется страх. Доброта — это всегда отвага. Забота о других делает тебя человеком. Заботься о других, будь человечнее.
***
Мысленно переименуй каждый день в субботу. А работу назови «игрой».
***
Поиски смысла жизни не приносят счастья. Смысл — лишь третья штука по важности. В первую очередь нужно любить и жить.
***
Не убивай себя. Даже когда тьма непроглядна. Всегда помни, что жизнь не стоит на месте. Время есть пространство. Ты движешься в этой галактике. Дождись, и увидишь звезды.
***
Тебе повезло, ты живешь. Глубоко вдохни и ощути радости жизни. Не принимай как должное ни одного лепестка цветка.
***
Ты хороший человек, Гулливер Мартин.
***
Я люблю тебя. Помни об этом.
***
Читайте также
www.psychologies.ru
Эпатажное поведение подростков
11 сентября 2013 г. 11:25:15
В переходном возрасте поведение ребенка может резко измениться. И нередко в этот период подростки шокируют окружающих своим эпатажным поведением.
Например, подросток может выкрикивать что-то неуместное на уроках, вызывающе вести себя на улице и в общественных местах. Внешне это поведение чем-то напоминает детскую непосредственность дошкольника, но понятно, что в отличие от малышей, подростки ведут себя так вполне осознанно. Что же стоит за подростковым эпатажем? На самом деле, это один из способов решения сразу нескольких возрастных задач.
Отрицание норм и правил, проверка их на прочность
Под влиянием воспитания с раннего детства ребенок привыкает жить в определенной системе норм, правил поведения и традиций. У него практически не возникает вопроса о происхождении этих правил и для чего они нужны, ему вполне достаточно того, что так сказала мама или учительница. Подросток же начинает подвергать сомнению каждое правило, обесценивать и отрицать любые ограничения. «Нельзя громко смеяться – а если попробовать? Нельзя разговаривать с учителем неуважительно – а я попробую, посмотрим, что будет» и так далее. Подросток бросает вызов системе, созданной взрослыми и не имеющей личного смысла для него самого, он как будто специально делает все назло. На самом деле, это необходимый этап в развитии самосознания человека, на основе этого отрицания и пересмотра ценностей подросток постепенно формирует собственную систему координат. Причем вовсе не обязательно, что эта система будет противоположной тому, что он так активно отрицал. Это вовсе не означает, что в таком случае нужно позволять подростку грубить и вести себя нагло. Просто необходимо понимать, что запретами, наказаниями и приказами тут уже ничего не добиться, причина «потому что я так сказал» вызывает лишь бурный протест подростка. Каждую из норм и правил нужно объяснять, а то и вместе с сыном и дочерью формулировать их заново.
Привлечение внимания, завоевание авторитета среди сверстников
Еще одна важная тема для подростка – общение со сверстниками. В этом возрасте становится очень важным иметь группу, где тебя принимают, а лучше – где ты являешься лидером, авторитетом для других. Эпатажное поведение оказывается неплохим способом завоевания такого авторитета. Каждый «безбашенный» поступок добавляет очков в копилку подростка, его статус в глазах сверстников повышается. Ведя себя развязно и вызывающе, подросток чаще всего работает на публику. Многое зависит от особенностей самого коллектива, где подросток пытается самоутвердиться – что ценится в этом коллективе, считается «крутым».
“Если подростки начинают вести себя нагло, вызывающе, переходить рамки, это, прежде всего, говорит не о самих юношах и девушках, а об уровне развития коллектива, а значит меры должны быть направлены именно на развитие коллектива.” -Евгения Лепешова, Психолог
Ощущение взрослости
Через эпатажные поступки подросток начинает ощущать себя более взрослым, что также очень важно в этом возрасте. «Это я пока был маленьким, боялся, а сейчас говорю все, что думаю!» — примерно так обозначает подросток этот водораздел. И чем меньше у подростка реальных возможностей для демонстрации своей взрослости, тем больше он будет пытаться доказывать ее смелыми и неоднозначными поступками.
Когда ребенок вступает в переходный возраст, родители часто оказываются в определенном воспитательном тупике. Прошлые приемы не работают, подросток ведет себя все более нагло, напряжение в отношениях растет. И в этот момент очень важно вместо того, чтобы усиливать его, сесть и подумать, что же происходит с ребенком, что скрывается за маской эпатажного поведения. И уже исходя из этого искать новые подходы к общению. Помните, что бурный период обязательно пройдет, и все встанет на свои места!
dz-online.ru
Подростковая война — BEZMOLIT.TV – Жизнь по своим правилам
 Подросток – это еще не полноправный взрослый, но уже и не ребенок.
Подросток – это еще не полноправный взрослый, но уже и не ребенок.
Это человек с неопределенным статусом.
Основная его задача – этот статус обрести и разобраться с тем, кто он сейчас и кем будет по жизни.
По доброй традиции, существующей в нашем обществе, родители и педагоги, окружающие подростка, как правило, активно ему в этом мешают. Это и порождает пресловутую Подростковую Войну…
Пробить «стеклянный потолок»!
Подросток отчетливо ощущает, что вышел из того возраста, когда все вокруг было просто, понятно и устойчиво. Он чувствует, что детство кончилось, ситуация изменилась, а вот что конкретно изменилось – понятно далеко не всегда. Непосредственно очевидна лишь верхушка айсберга: окружающие начинают относиться к нему по-другому. Предъявляется значительно больше требований: родительские умиления по поводу детских попыток помочь сменяются более серьезными поручениями по хозяйству – поначалу в качестве признания расширившегося круга способностей подростка, с легким полушутливым намеком: сам факт того, что ему доверяют такие значимые вещи, как мытье посуды, уборку квартиры и выбрасывание мусора уже почти делает из него взрослого. Затем то, что раньше было предметом гордости и основанием для поощрения, постепенно становится обязанностью и превращается в каждодневную бытовую рутину.
При этом новых прав в отношениях с родителями, как правило, либо совсем не прибавляется, либо бывает немного: существуют вещи, которые разрешены родителям, но по-прежнему запрещены подростку.
Этот феномен известен под названием «стеклянного потолка»[1] – невидимый барьер статуса, отделяющий (в данном случае) подростка от взрослых. Через «потолок» прекрасно видно: люди, находящиеся «наверху», живут по-другому – происходящее в мире взрослых отличается от того, что происходит с ним; но природа этого барьера и способы его преодоления подростку, в большинстве случаев, неизвестны.
Преодоление «стеклянного потолка» ассоциируется у подростка обычно с победой в Войне – обретением прав и статусных привилегий, которыми обладают взрослые. Что же это за права? В первую очередь и почти исключительно – это право на независимость. Стать на одну доску с родителями и педагогами: самому контролировать и направлять свою жизнь, самостоятельно задавать цели, приоритеты и определять значимость своих действий – вот чего хочет подросток.
В этом своем желании он последовательно проходит 3 стадии:
Первая – безальтернативный конформизм – стадия согласия с существующими правилами по умолчанию. (Если родители сказали, что нужно чистить зубы 2 раза в день – значит, так и буду делать). Это свойственное ребенку согласие проистекает из невозможности осознать, что может быть по-другому. Как только такое осознание пробуждается, это знаменует собой переход к следующей стадии:
Компульсивное отрицание – самая неприятная для окружающих, но жизненно необходимая подростку стадия «нащупывания границ дозволенного» и «ускользания от принуждения». Собственно, она-то обычно и ассоциируется с Подростковой Войной. На этой стадии подросток отрицает то, что прежде не вызывало у него сомнений (Почему это надо спать раздетым? А я буду в одежде! Зачем обувь чистить? Не буду – все равно запачкается и т.д.). Завершается данная стадия осознанием того, что прямое отрицание делает столь же зависимым от чужого мнения, как и бездумный конформизм[2].
Стадия альтернативного сотрудничества – это стадия осознанного поведения. Базируется она на четком понимании: «любой поступок – это всегда только мой выбор. Что бы я ни делал, это обусловлено моим желанием». Если оно совпадает с желаниями окружающих – это хорошо, тем проще будет его реализовать. Если не совпадает – будет сложнее. Сложнее потому, что несогласие с мнением окружающих (это подросток выяснил на предыдущей стадии) всегда влечет за собой ответственность. Вопрос заключается лишь в том, как реализовать свои желания так, чтобы при этом было как можно меньше негативных санкций и лишней (ненужной самому) ответственности? Ответ очень прост – сотрудничая. Во всех случаях, когда это представляется возможным и не вредит собственным интересам.
Необычайно важно то обстоятельство, что на данной стадии сотрудничество носит осознанный характер и возникает по собственному желанию – в соответствии с собственными целями – а не по шаблону и не под давлением, как на предыдущих.
Однако для того, чтобы этой стадии достичь, надо по меньшей мере иметь собственные цели по жизни, собственные идеалы и не сводимое к мнению окружающих представление о себе.
Разберемся с этим подробнее:
Война за самооценку
Принципиальное значение для формирования адекватной самооценки человека по жизни имеет ответ на вопрос: выиграл он свою Подростковую Войну или проиграл: смог ли отстоять право[3] на реализацию собственных целей и идеалов? Другими словами – право на статус взрослого человека, самостоятельно определяющего свою судьбу.
В основе «своего» (невыводимого из мнений окружающих) поведения всегда лежит «своя» цель. Именно она отличает конформизм (делаю уроки, потому что так родители сказали – своей цели нет) от сотрудничества (делаю уроки, потому что хочу поступить в тот ВУЗ, который сам выбрал – своя цель налицо).
Для того, чтобы иметь свою цель, надо представлять, кто ты и чем отличаешься от окружающих – то есть иметь адекватное самопредставление, или – если по-русски – самооценку.
Итак:
Конечная цель Подростковой Войны – растождествление самооценки и оценки окружающих.
Если Война успешна, подросток обретает «внутренний стержень» – адекватную самооценку, представление о своей цели и своем пути, которое позволяет быть «на равных» с кем угодно: в ее основе лежит понимание: существует только один человек на свете, который несет ответственность за его самооценку – сам подросток. Отсюда – осознание глубинной личной ответственности за свои действия, поступки и жизненные ориентиры. Оборотной стороной этого является осознание собственной исключительности и жизненного потенциала.
Именно осознание простого факта («твоя самооценка зависит только от тебя!») и позволяет смело выбирать свой путь по жизни, ставить цели и реализовывать их.
Что означает проигрыш в Подростковой Войне?
Безальтернативное принятие картины мира (то есть способов оценки себя самого и всего происходящего вокруг), предлагаемой – или навязываемой – родителями и педагогами.
Что означает выигрыш в Подростковой Войне?
Право иметь свою картину мира и свою – не сводимую к социально значимым факторам – самооценку.
При этом доверие и сотрудничество, возникающие при согласовании интересов, принципиально важны – но они возможны только после того, как подросток осознает и примет свой новый статус в качестве полноправного члена общества – с полной ответственностью за свой выбор и свои действия. То есть сотрудничество с окружающими возможно – и это принципиально важно – только если подросток выигрывает свою Войну.
Необходимо пройти через стадию отрицания для того, чтобы достичь полноценного сотрудничества, а не подчинения.
Как это происходило раньше
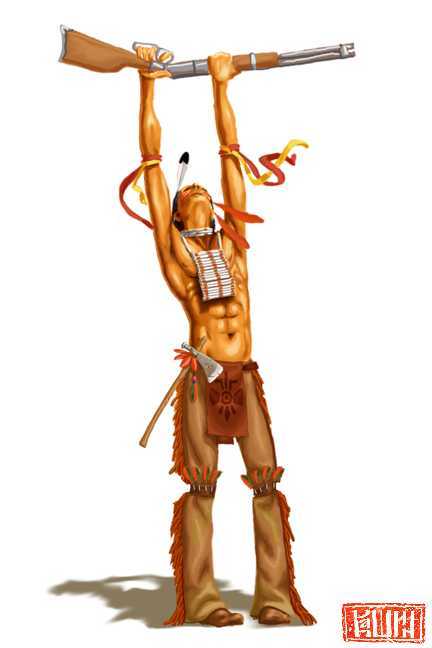 В традиционных обществах (например, в племенах индейцев) существовали процедуры инициации – «возрастные обряды, благодаря которым подростки получают доступ к сакральному, к знанию, к сексуальности, становятся человеческими существами»[4]. То есть становятся полноправными членами общества с четко определенным статусом. Чаще всего, статус был связан с получением имени (иногда второго – духовного). До процедуры подросток воспринимался (окружающими и в первую очередь собой ) как ребенок, после процедуры – как взрослый. Есть ли что-то похожее в нашем обществе?
В традиционных обществах (например, в племенах индейцев) существовали процедуры инициации – «возрастные обряды, благодаря которым подростки получают доступ к сакральному, к знанию, к сексуальности, становятся человеческими существами»[4]. То есть становятся полноправными членами общества с четко определенным статусом. Чаще всего, статус был связан с получением имени (иногда второго – духовного). До процедуры подросток воспринимался (окружающими и в первую очередь собой ) как ребенок, после процедуры – как взрослый. Есть ли что-то похожее в нашем обществе?
Получение паспорта?[5] Право избирать? Или, может быть, право быть избранным? На самом деле все гораздо глубже – это достижение возраста, при котором подросток может привлекаться к уголовной ответственности. Ответственность официально удостоверяет, что подросток способен теперь на действия, действительно что-то значащие для окружающих. Т.е. уголовная ответственность – это признак того, что теперь подростка в некоторой степени опасаются, признавая за ним возможность совершить общественно опасное деяние. Преследование по всей строгости закона – это узда, которая необходима только опасным. Тем самым некоторый статус за подростком уже признается.
Давайте разберемся в отличии этой ситуации от ритуалов древних:
Во первых, после прохождения инициации подросток получал не только обязанности, но и права. Он мог участвовать в делах племени наравне со всеми, жениться/выходить замуж[6]
Во-вторых, процедура имела четко определенный, неизменный смысл и значение – все участники заранее знали, что в результате молодой человек/девушка становится полноправным членом общества. В то время как в наше время многие подростки (да и взрослые) не знают, что уголовная ответственность за некоторые правонарушения[7] наступает с 14 лет, за основную массу – с 16 лет, а полная ответственность наступает с 18 лет. Почему не знают? Такие необразованные? Вряд ли. Скорее потому, что законодательство, определяющее этот возраст, постоянно меняется[8], и уж конечно не зависит ни от самого подростка, ни от решений взрослых из его ближайшего окружения[9].
И в-третьих, в первобытном ритуале подросток сам добывал себе имя – ему надо было его завоевать. Не все выходили из ритуала инициации победителями. Это уже создавало определенный повод для самоуважения и уважения окружающих. Можно сказать, что этот ритуал и был Подростковой Войной, протекающей в форме блицкрига. При этом Войной узаконенной, направленной по социально приемлемому руслу.
В нашем же обществе такого социально полезного ритуала нет. Поэтому подростку приходится самому заниматься всем спектром социальных и психологических вопросов по осознанию и принятию своего нового статуса.
Почему этого боятся и что с этим делать?
Есть несколько причин страха Подростковой Войны:
В нашей социальной системе, как уже отмечалось, почти-взрослый человек имеет неопределенный статус: он зависит от родителей, постоянно живет с ними, но уже располагает большими возможностями, чем ребенок и – что гораздо более важно – значительно менее лоялен и подконтролен.
Не всегда понятно, как к нему относиться, как делить бытовые обязанности/полномочия; когда надо мотивировать и договариваться, а когда – внушать авторитетом и заставлять. В «социальном уставе» не прописано 🙂
Поэтому, даже не осознавая этого, родители часто стараются сделать вид, что подросток – человек еще недостаточно взрослый и обращаться с ним можно по привычке – как с ребенком. Так удобнее – менять свое поведение и задумываться над ним лишний раз не надо – а там, глядишь, и опасный период проскочим. Скорее всего, так и будет. Период проскочите, и ребенок на всю жизнь останется зависимым и безответственным.
Данный вид родительского поведения («наседка-клуша») подпитывается чудесной верой в то, что человек из ребенка сразу в одночасье может стать взрослым. И раньше (с помощью ритуала) это действительно было возможно. Но сегодня – уже нет.
Подростки тоже не всегда позитивно воспринимают взросление. В некоторых случаях оно обрастает тревогами, страхами и опасениями.
Самая очевидная причина – ответственность. Раньше ее не было, теперь к ней надо привыкать. Следующая – менее очевидная – необходимость думать, думать, думать…
Причем, самостоятельно – ведь любая (пускай даже здравая) мысль, воспринятая от взрослых и не переосмысленная самостоятельно, в этом возрасте воспринимается как внушение – часть морализирующей дидактики, направленной на обеспечение послушания. Можно, конечно, расслабиться и пустить все на самотек, но куда деться от беспокоящего ощущения того, что время уходит, что-то безвозвратно меняется – и надо разобраться с этими вопросами именно сейчас, пока поезд не ушел окончательно?
И, наконец, третья причина, отчасти связанная со второй – необходимость добывать себе в жизни[10] новый статус, не сводимый к статусу родителей. Для этого же что-то делать надо!
Если вы родитель: чем помочь подростку?
Во-первых, с пониманием отнестись к его желанию стать полноправным и независимым членом общества и уважать его – на словах и на деле. Наверное, вы сами были бы не очень-то рады, если бы он решил остаться на всю жизнь ребенком, сидящим на вашей шее.
Во-вторых, дать подростку как больше честной, достоверной информации о социальном строении общества[11].
В-третьих, осознать, что детство безвозвратно ушло – и теперь авторитетом, внушениями и угрозами ничего не добиться. Учитесь договариваться и передоговариваться с подростком, как с почти-взрослым человеком. Обращайте больше внимания на прояснение и синхронизацию общих целей. Важно, чтобы эти цели были понятны и вам, и ему.
Если вы подросток:
Во-первых, можно осознать, что ваши усилия по поиску своего места в жизни абсолютно оправданы – и продолжить их. При этом осознать, что точно так же абсолютно оправданы усилия окружающих – в том числе и родителей.
Во-вторых, сконцентрироваться на прояснении узловых вопросов: «кто я и чем отличаюсь от окружающих? От кого или от чего зависит моя самооценка?»
В-третьих, искать точки соприкосновения ваших целей по жизни с интересами окружающих – и сотрудничать с ними там, где это не противоречит вашим интересам.
Победоносной и быстрой вам Подростковой Войны!
И еще – это совет для всех – стоит помнить о том, что подростковая война подобна свинке или краснухе: может быть в любом возрасте – но чем раньше она случится, тем легче будут последствия. Для всех.
А. Безмолитвенный © 2009
Размещение статьи на других ресурсах возможно. С обязательной ссылкой на www.bezmolit.tv
[1] «Стеклянный потолок» – (в первоначальном смысле) невидимый, но реально существующий социальный барьер, отделяющий женщин, представителей меньшинств и – шире – подчиненных сотрудников в организациях от высших руководящих должностей. Затем значение этой идиомы было трансформировано и расширено: теперь она описывает статусный барьер, задающий неравенство вообще.
[2] На всякий случай даю здесь примерную логику обоснования того, почему это так:
Независимость по отношению к окружающим можно условно обозначить как «невычислимость» поведения человека на основании знания позиций (мыслей, поступков, отношений и требований) других людей. На стадии конформизма, естественно, никакой независимости нет – наблюдается тождество позиций ребенка и родителей. Стадия отрицания, затеваемая как попытка обрести независимость, все равно оставляет вычислимым – в самом деле, поведение подростка в Подростковой Войне предсказать не так сложно, как ему хотелось бы думать: описывается оно немудреной сентенцией «сделай наоборот!» (есть еще радикальный вариант того же самого: «сделай назло!»).
Как только подросток осознает свою «вычислимость» (окружающие начинают предсказывать его поведение: «а, ну опять, как обычно, на улицу побыстрее убежишь, чтобы посуду не мыть»), он переходит к следующей стадии, подключая к «негативным» (не мыть полы, не делать уроки) позитивные выборы – и становится действительно более независимым, зная, что его поведенческий репертуар расширен за счет поведения «не так» и «наоборот». Только теперь он может принимать полноценные личностные решения, поскольку впервые в его жизни действительно есть из чего выбирать. Именно поэтому стадия компульсивного отрицания исключительно важна – избежать ее (пусть даже в слабых проявлениях) нельзя.
[3] В первую очередь – перед самим собой
[4] Элиаде М. Тайные общества: обряды инициации и посвящения. М.: Гелиос, 2002. с. 352
[5] Эта процедура воспринимается скорее не как отголосок архаичного зова джунглей, а как модернистская насмешка над первобытной инициацией – искривленное отражение, в котором только намеками угадываются осколки ритуала обретения имени.
[6] Насчет женских ритуалов инициации смотри: Римма Ефимкина. «Три инициации в «женских» волшебных сказках».
[7] Кстати, существует расхожее мнение, что ответственность с 14 лет наступает только за особо тяжкие преступления. Это не так. В самом деле, не назовешь же особо тяжкими «заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214)».
[8] Родители подростка жили при законодательстве, которое регламентировало другие сроки наступления ответственности.
[9] Как это ни парадоксально, современный человек в данном отношении в большей степени зависим от решений неведомых «небожителей», которых он даже никогда не видел, чем первобытнообщинный.
[10] Первоначально – в своей тусовке.
[11] Разумеется, в данном случае не той, что пишется в учебниках по обществознанию. Ни в коем случае не обходить такие важные темы: чем определяется статус в современном обществе, стоимость на «брачном рынке», секс, критерии выбора партнера,положение в разных иерархиях, работа и не-работа, личностные стратегии и доверие в отношениях. Если вам кажется, что сами вы неспособны осветить эти вопросы, пускай подросток сходит на соответствующий тренинг – это сэкономит ему годы поисков.
www.bezmolit.tv
13 ошибок, которые допускают все родители подростков

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Подростковый возраст — трудное время не только для родителей, но и для самих детей. В это время родители часто понимают, что те правила, по которым они общались с детьми, уже не действуют, в это время часто всплывают ошибки воспитания — они понимают, что нужно что-то менять.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, что так часто мешает нам, родителям, построить крепкие, теплые отношения с подростками и не потерять их доверие.
13. Настаиваете на откровенности

Многим родителям сложно принять, что повзрослевший ребенок допускает их не во все сферы своей жизни. Часто они начинают требовать большей откровенности от ребенка. Но подростку крайне важно чувствовать свою самостоятельность, опираться на собственное мнение. Чем больше он ощущает давление на себя, обиду со стороны родных, тем сильнее начинает закрываться и защищать свое личное пространство: уходит от откровенности, начинает обманывать.
12. Нарушаете личное пространство
Порой из самых благих побуждений родители начинают проверять карманы, сумку, переписку подростка. Делая так, мы не только проявляем неуважение к ребенку, но и обесцениваем его личное пространство, а ведь он еще только начинает пробовать обращаться с ним.
Это сильно подрывает его доверие как к родителям, так и к самому себе. Стоит приложить усилия, чтобы контроль стал результатом открытой и честной договоренности между вами и ребенком.
11. Игнорируете мнение подростка

Когда родители не интересуются мнением ребенка, не принимают его в расчет — он чувствует, что оно для родителей не важно, и делает выводы, что его не любят и не уважают.
Такое поведение может спровоцировать в ребенке агрессию. Возможен и второй вариант: ребенок сдастся в ответ на вашу настойчивость и однажды может просто потерять способность принимать решения самостоятельно.
10. Предъявляете размытые требования

Конечно, на уровне здравого смысла ребенок поймет вас, но реализовать требование ему бывает очень сложно, поскольку критерии довольно размыты.
Со временем это может привести к большому расхождению во мнениях между вами: ребенок будет считать, что уже соответствует предъявленным требованиям в полной мере, а вы — что всегда есть к чему стремиться. Чтобы избежать этого, стоит точно представлять, чего вы хотите, и научиться так же точно говорить об этом детям.
9. Обесцениваете его чувства
Родителям часто кажется, что дети излишне драматизируют события. Но если ребенок регулярно не получает поддержку со стороны близких, он чувствует себя отвергнутым и закрывается еще сильнее. Либо начинает протестовать против родителей и вести себя агрессивно.
Старайтесь воспринимать всерьез все то, что происходит с ребенком, уважайте его чувства, цените его доверие. Дайте ему знать, что он понят и принят, что его чувства для вас важны.
8. Не всегда последовательны

Порой, чтобы ребенок выполнил требования, родители прибегают к заранее невыполнимым обещаниям или угрозам. Но, когда желаемая цель достигнута, забывают о своих словах или же просто не спешат их выполнять.
Но стоит помнить: подростки очень щепетильно относятся к выполнению обещаний взрослых. Если раз за разом близкие будут говорить пустые слова — ребенок перестанет верить им. Так родители потеряют авторитет в глазах подростка.
www.adme.ru
Психология подростка: 7 проблем современного подростка
Содержание статьи
Психология подростка
Многие родители хватаются за голову, когда их детям исполняется 12-13 лет. Послушные и примерные мальчики и девочки становятся грубыми, дерзкими, зачастую отрицают все, что прививали им дома. Есть, конечно, дети, которые и в переходном возрасте только радуют родителей, но их меньшинство. О наиболее типичных проблемах современных подростков и причинах их конфликтов с родителями перед началом учебного года Правмиру рассказал психолог Центра социально-психологической адаптации и развития подростков «Перекресток» при Московском городском психолого-педагогическом университете Петр Дмитриевский.
Проблемы современных детей
Петр Дмитриевский родился в 1975 году в Ленинграде. В 1999 окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Работал переводчиком с японского в федерации каратэ. С 1999 года на общественных началах руководит подростковым приходским клубом при храме святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине (Москва). В 2009 получил второе высшее образование в Московском городском психолого-педагогическом университете и на факультете гештальт-терапии с детьми и семьей МГИ. С 2010 года работает в Центре социально-психологической адаптации и развития подростков «Перекресток» при МГППУ.

Петр Дмитриевский
— Петр, на какие проблемы своих детей-подростков чаще всего жалуются родители, обращающиеся в ваш центр?
— Самая распространенная жалоба – он (она) «ничего не хочет». То есть родителям кажется, что их ребенок не интересуется ничем важным, слишком пассивен.
Мы пытаемся разобраться, почему подросток стал менее любопытным к миру. Иногда после одной или нескольких бесед оказывается, что любопытство осталось, просто то, к чему лежит душа подростка, не вписывается в систему ценностей родителей.
Конечно, интернет очень сильно поменял контекст развития подростка, и многие родители обеспокоены тем, что ребенок слишком много времени проводит за компьютером. Выясняем, что именно ищет подросток в интернете, в компьютерных играх – иногда ситуация сразу смягчается и члены семьи находят общий язык, а иногда проблема оказывается даже серьезней, чем представляли себе родители. В этих случаях требуется продолжительная и кропотливая работа с семьей.
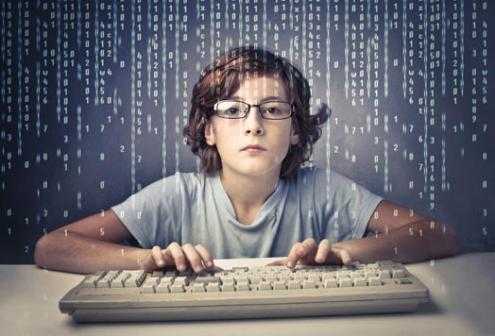 Многим в подрастающем поколении интернет-общение почти полностью заменяет реальную жизнь, компьютер для таких детей становится единственным способом снять напряжение, справиться со сложными переживаниями.
Многим в подрастающем поколении интернет-общение почти полностью заменяет реальную жизнь, компьютер для таких детей становится единственным способом снять напряжение, справиться со сложными переживаниями.
Еще одна частая проблема, с которой к нам обращаются родители – сложности их ребенка в отношениях с одноклассниками. Причем это бывает как у детей стеснительных, робких, так и у импульсивных, физически очень крепких ребят, которым из-за своей импульсивности трудно регулировать свое поведение. Такие подростки часто признаются на консультациях, что не могут удержать себя в рамках. Их поведение создает дискомфорт и сверстникам, и учителям, но оно и им самим мешает.
У нас есть специальные группы, где в течение двух месяцев при модераторстве двух психологов ребята через череду игр и упражнений учатся выстраивать отношения со сверстниками. На первых занятиях многие зажаты, боятся, что если они поделятся своими переживаниями, другие их отвергнут. Но занятия помогают им стать более открытыми, что очень важно для общения со сверстниками.
Участие в группе дает подростку отличную возможность научиться выстраивать доверительные отношения, замечать манипуляции и обходиться с ними, избавляться от стереотипов в отношении себя и других, договариваться в ситуации конфликта.
Особенности возрастной психологии
– А не связана ли зажатость подростка, его нелюдимость с одиночеством, которое он чувствует в семье? Ведь при нынешнем ритме жизни такое внутреннее одиночество нередко и во внешне благополучных, обеспеченных семьях. Родители отдают ребенка в хорошую школу, в секции, кружки, ни в чем ему не отказывают, но так устают на работе, что даже в выходные не находят сил пообщаться с ним, не интересуются его внутренним миром.
— Бывает и такое, причем я не думаю, что это примета именно нашего времени. Близкие отношения – и между супругами и между родителями и детьми – всегда требовали душевных усилий, а людям инстинктивно свойственно избегать напряжения. И чем больших усилий требует общение с другим, тем чаще у людей возникает желание уклониться от этого общения.
С подростком просто не бывает – у него возрастной кризис, период перестройки отношений со сверстниками, с обществом, с собой, с родителями, и по-человечески можно понять родителей, которые, сталкиваясь с изменением своего ребенка, его грубостью, непредсказуемым поведением, чувствуют бессилие и отступают. А загруженность работой вроде бы уважительная причина – для него же и стараются.
На самом деле бегство от проблем зачастую лишь усугубляет их. Родителям важно находить силы для диалога, учитывая такую особенность возраста, как желание приобрести больше самостоятельности. Желание естественное – в 12-13-14 лет большинству становится интереснее общаться со сверстниками, чем с родителями. Но признавая право подростка на автономию, поиск собственного пути, своей философии, своего круга знакомств, важно помнить, что он, хоть сам этого может не осознавать, нуждается в поддержке родителей и в столкновении с границами, выстроенными родителями.
Без таких границ взросление невозможно, поэтому воспитание подростка нельзя свести к поддержке и нежным словам – не менее важно договориться с ним, что можно, а что нельзя, у кого в семье какие обязанности. Объяснить, что совместное проживание на одной территории предполагает ответственность и необходимость достижения договоренностей. Тут родителям важно не перепутать устойчивость и внятность с унижением и жестокостью.
Читайте также – [Видео] Протоиерей Алексий Уминский: Когда подростки уходят из Церкви…
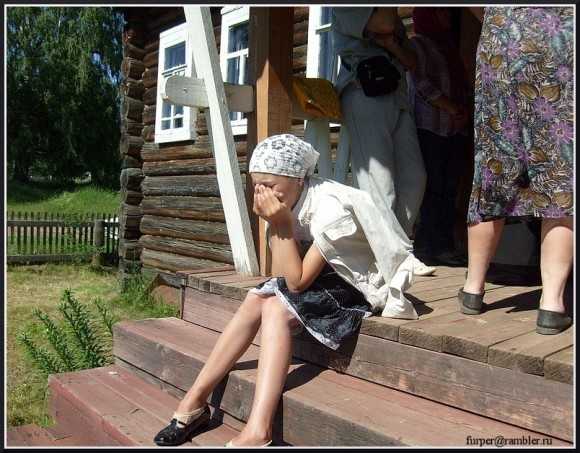
Фото: furper, photosight.ru
— В начале года всех потрясли несколько подряд подростковых самоубийств. Родители некоторых из этих подростков даже не подозревали, что у их детей есть серьезные проблемы.
— По наблюдениям известных мне суицидологов значительного всплеска самоубийств не было, просто СМИ в течение нескольких дней активнее освещали такие трагические случаи. Это и правда рискованно, потому что подросткам свойственно подражание.
Не могу утверждать, но вполне допускаю, что кто-то из подростков не решился бы на последний роковой шаг, если бы не услышал о самоубийстве другого в новостях. Но что бы ни послужило причиной самоубийства, оно никогда не совершается спонтанно. Любой психиатр вам скажет, что от суицидных мыслей до их осуществления проходит время.
Поэтому если родители и учителя после трагедии говорят, что они ничего не замечали, их, конечно, жалко (особенно родителей!), но надо было приложить определенные усилия, чтобы совсем не заметить у ребенка признаков душевного кризиса. В семье иногда это сложно, и тогда важно, чтобы подростка могли подстраховать взрослые в школе.
Вот почему, в том числе, необходимо налаживать психологические службы. Пока же, по моим наблюдениям, даже в тех школах, где есть психологи, они завалены диагностической работой. То есть они должны проводить много тестов на выявление различных особенностей в классах и давать рекомендации учителям – таковы требования к ним.
Я думаю, что некоторые из этих рекомендаций для работы с определенной группой могут быть полезны и эффективны, но при таком понимании работы у психолога совсем не остается времени на индивидуальную работу с подростком, помощь конкретному ученику в прохождении трудностей. Тем более нет на это времени у учителей – учебные программы усложняются, а количество часов, отведенных на предмет, часто остается прежним. Поэтому учителя полностью сосредоточены на передаче знаний, и у них не остается времени на выстраивание с подростками отношений, при которых возможны обмен жизненным опытом и поддержка.
Естественно, я не обобщаю. Есть и педагоги с большой буквы, которые становятся для своих учеников не просто предметниками, но и старшими друзьями, мнение которых авторитетно для подростков, и психологи, вникающие в переживания каждого ученика, помогающие ему найти взаимопонимание с учителями, родителями.
Но, конечно, хотелось бы, чтобы таких специалистов становилось больше в современной российской школе. Некоторые учебные заведения обращаются и к поддержке внешних специалистов. Центр «Перекресток» активно сотрудничает со многими школами, наши психологи проводят там и групповые занятия, и индивидуальные консультации.
–– Часто ли у детей желание замкнуться, отчуждение от взрослых начинается с неуспеваемости в школе? По своему детству помню, что многие учителя на тех, кто не успевал по их предмету, сразу ставили крест. Иногда и родители перестают верить в своего ребенка, и это неизбежно приводит к заниженной самооценке, комплексам, на преодоление которых могут уйти годы.
— Вы затронули очень актуальную проблему. В психологии даже есть термин «стигматизация», означающий наделение человека уничижительным ярлыком, в результате чего он сам может поверить в свою никчемность.
Конечно, подростки особенно чувствительны к таким ярлыкам. Есть школы, в которых практикуется индивидуальный подход к каждому ребенку, но их до сих пор не так много. Некоторым педагогам не хватает ни сил, ни компетенции для работы с более сложными детьми. И вот вместо того, чтобы разобраться, почему ребенок с сохранным интеллектом не проявляет интереса к учебе, учителя в бессилии начинают говорить ребенку, какой он глупый, непутевый. Делают это, вероятно, из лучших побуждений – надеются через стыд пробудить в нем творческую активность. Это заведомо безнадежная система воспитания, но, несмотря на свою безнадежность, она широко распространена в российских школах.
Родители обычно в таких ситуациях впадают в одну из двух крайностей. Либо они безоговорочно занимают сторону учителей и начинают единым с ними фронтом давить на подростка, либо, наоборот, говорят, что ребенок прекрасен, а во всем виновата школа. Обе позиции неконструктивны, но, пожалуй, меньшее из двух зол — когда родители защищают «хорошего» ребенка от «плохих» учителей.
Поддержка взрослых ребенку необходима, поэтому лучше такая поддержка, чем никакой. Конечно, более по-взрослому было бы садиться и подробно разбираться в конфликте: в чем претензия учителя, в чем недовольство подростка? Если разговор пойдет в таком ключе, недалеко и до обнаружения общих целей и достижения ясных договоренностей между конфликтующими сторонами.
— А если поддержки нет, велика ли вероятность, что подросток замкнется или даже уйдет из дома?
— Подростку в любом случае нужен круг, в котором его принимают и ценят. Если он не находит этого в социально приемлемых формах, будет искать в виртуальной реальности или в асоциальных группах. Некоторые действительно связываются с дворовыми криминальными компаниями, но сегодня чаще подростки уходят от одиночества в виртуальную реальность. Внешне это выглядит более благополучно – они не нюхают клей, не воруют автомагнитолы из машин, но для психики это все равно риск.
— Но ведь и до появления интернета были дети, предпочитавшие играм со сверстниками уединение. В том числе многие святые, например, Сергий Радонежский. Понятно, что монашество – путь для немногих, и нельзя на него ориентировать обычного ребенка, но, например, в советском атеистическом обществе некоторые дети проводили все время за книгами или математическими задачами. И некоторые из них реализовались в науке. Таких детей, конечно, тоже меньшинство, но они есть. Правильно ли навязывать им стереотипы? Не ломаем ли мы их таким образом?
— Я вполне допускаю, что такие дети есть, и, конечно, ломать их неправильно. Вообще психологи сегодня стараются отходить от клише «норма-отклонение». Но в моей практике, пока недолгой, я сталкивался именно со случаями, когда у подростка есть потребность в общении, которую он не смог реализовать в силу отрицательного опыта. То есть его замкнутость была не органичным выбором, а следствием неудач, породивших определенные установки. Видимо, в тех случаях, о которых вы говорите, родители не обращаются за нашей помощью.
И все же я думаю, что зависание в интернете может быть вреднее многочасового чтения или увлечения точными науками. Естественно, нельзя согласиться с теми, кто видит в интернете только зло. Интернет дает быстрый доступ к информации, возможность регулярно общаться со сверстниками из других городов и стран, практиковаться в иностранном языке, расширять знания по другим предметам. Но использование интернета имеет и свои риски. Пока рано делать обобщающие выводы – эти риски только начинают изучаться, но уже есть какие-то наблюдения.
Например, можно с уверенностью сказать, что когда интернет становится главным, а то и единственным средством общения, у пользователя ухудшается умение быть в отношениях с реальными людьми. Подросткам, которые приходят на наши группы (а большинство из них как раз все свободное время проводят в сетях), очень трудно разобраться в эмоциях собеседника. Они прекрасно ориентируются в текстах, но не могут узнать что-то новое о человеке по его взгляду, интонации. Да и слышат они плохо – не привыкли к живому диалогу. Кроме того, им сложно удержать внимание на чем-нибудь одном – ведь интернет позволяет быть одновременно в нескольких окнах: музыка, видео, переписка, форум. В режиме многозадачности они чувствуют себя как рыба в воде, но сосредоточиться на одной задаче им непросто.
Этим же интернет существенно отличается от книги. Чтение книги – полезное времяпрепровождение (разумеется, если книга хорошая), развивающее, вряд ли чем-то заменимое, но все же однообразное, сводящееся к получению и усвоению текстовой информации. Людей, которым это занятие может заменить все остальное, не так много. В интернете же есть и тексты, и видео, и музыка, и картинки, и общение, и возможность для творчества. Получается, что очень многие потребности в информации, общении, развлечениях можно удовлетворить, не отходя от монитора.
Поэтому детей, зависающих в интернете, гораздо больше, чем книжных домашних детей, не стремящихся к общению. У большинства этих детей есть потребность в общении, просто реальному общению они предпочитают виртуальное. По мере того, как будут проводиться новые исследования, мы будем лучше понимать, как следует переживать этот очередной цивилизационный сдвиг, сравнимый с изобретением книгопечатания или началом использования огня, и какие риски для развития психики несет распространение интернета и компьютерных игр.
Преодоление психологического кризиса
–– Традиция психологической помощи в России только складывается. Может быть, поэтому некоторые родители, сталкиваясь с теми или иными проблемами ребенка, сразу ведут его к психиатру?
— Да, такие случаи бывают. Родители чувствуют свое бессилие в каких-то моментах воспитания подростка и острое желание как можно быстрее преодолеть этот кризисный момент. Проще всего в этой ситуации привлечь какую-то внешнюю силу. Для одних это психиатр, для других – кадетский корпус, но логика одинаковая: вместо того, чтобы выходить на диалог, применить силу в виде таблетки или военизированной структуры («Там-то из тебя сделают человека!»).
Хочу, чтобы меня правильно поняли – я не против кадетских корпусов. Есть ребята, которым это подходит. Если у ребенка есть интерес к военизированным играм, строгой структуре, ясным задачам, желание быть в команде, наверное, в кадетском корпусе ему будет интересно. Но я категорически против кадетского корпуса как репрессивной меры родителей, когда интересы и особенности ребенка вообще не учитываются. А такой вариант решения проблем приходит в голову родителям, пожалуй, не реже, чем идея о визите к психиатру. В отчаянии родители решают «спихнуть» подростка в жесткую иерархическую систему – раз он отказывается подчиняться им, пусть подчиняется чужим дядям. В подростковом возрасте очень важно приобретать опыт партнерских отношений, а такая воспитательная мера этому не способствует.
С последствиями таких мер я пока не сталкивался – на моей памяти и в моей практике было несколько случаев, когда родители в результате бесед со мной или моими коллегами отказывались от идеи отдать свое чадо на перевоспитание в кадетский корпус и находили решение проблемы в переговорах и прояснении взаимных обид.
Читайте также – Синий чулок или белая ворона? [+ Видео ]

Фото: Larisa Zharko, photosight.ru
–– А с последствиями лечения у психиатра, когда в этом не было необходимости, сталкивались?
— Чаще бывает, что ребенку, который с подачи родителей наблюдается у психиатра и принимает лекарства, медикаментозное лечение в данный момент действительно нужно, но в сочетании с психотерапевтической работой. Такое сочетание необходимо не только детям, но и взрослым, если речь идет не о тяжелой психической патологии и интеллект у человека сохранен. Ну а в российской психиатрии часто упор делается именно на медикаментозное лечение.
Но мы, конечно, не ставим под сомнения назначения врача. Последнее дело – вступать в конкуренцию со специалистом в другой области, гораздо важнее встроиться в ситуацию, которая сложилась до прихода семьи к нам. Все-таки случаи, когда врач ошибочно прописывает ребенку психотропные препараты, редки. Просто лучше медикаментозное лечение и психотерапевтическую помощь начинать одновременно.
И, кстати, если родители сначала приводят ребенка к нам, так и происходит. Мы же видим, если ребенку нужна не только наша помощь, но и врачебная – психологов этому учат, и, не отказываясь работать с семьей, рекомендуем родителям показать его психиатру. У нас есть знакомые детские психиатры, в чуткости и квалификации которых мы уверены. Поэтому правильнее, на мой взгляд, не тащить ребенка сразу к психиатру, а сначала прийти вместе с ним к психологу. За исключением, конечно, случаев, когда психические отклонения очевидны. Но это отдельная тема. В центре «Перекресток» работают с подростками, у которых нет тяжелых патологий.
— Многие верующие люди, в том числе и священники, рассказывали, что в переходном возрасте их дети начинали бунтовать, переставали ходить в церковь. Опытные духовники советуют в таких случаях принимать этот бунт как свершившийся факт, не принуждать ребенка к хождению в храм, а молиться за него, уповая, что с Божьей помощью он через какое-то время сам вернется к церковной жизни. И некоторые действительно возвращаются. Но большинство-то православных родителей – неофиты, а неофитам несвойственно прислушиваться к советам духовно более опытных людей, зато свойственно желание, чтобы все было по правилам, благочестиво. Не знаю, правда, обращаются ли люди с такими проблемами в ваш центр – ведь неофиты, мягко говоря, с большим подозрением относятся к психологии.
— Тем не менее эта проблема мне как раз хорошо знакома. Вы правы – сюда на моей памяти с такими проблемами никто не приходил, но я еще с 1999 года руковожу подростковым приходским клубом при храме Космы и Дамиана в Шубине. И вот там с такими случаями сталкивался не раз.
Мы уже обсудили с вами, что в переходном возрасте ребенок начинает самоутверждаться, хочет быть взрослым, самостоятельным. И многие в период этого самоутверждения отвергают ценности, которые им прививали родители. Соответственно дети из верующих православных семей начинают бунтовать против Церкви и христианства как главной ценности их родителей.
Как любая сложно контролируемая ситуация, антицерковный бунт детей может привести родителей в замешательство, растерянность. И здесь также бывают попытки решить проблему с помощью привлечения жесткой внешней структуры, в данном случае – религиозно-аскетической. Изначальная цель такой практики – способствовать духовному росту человека, делать его жизнь богаче, интереснее, свободнее, но ревностные не по разуму родители и ее могут использовать для «воспитания» отбившегося от рук ребенка.
По-человечески переживания родителей, страх за своих детей, желание уберечь их от трагических ошибок понятны. Но без проверки мира на прочность и получения от этого мира обратной связи ребенок не сможет стать взрослым человеком, а на этом пути ошибки неизбежны. И у родителей всегда есть выбор: либо оказывать поддержку и наблюдать, как ребенок иногда радуется жизни, а иногда получает и негативную обратную связь, испытывая боль от своих ошибок, либо пытаться загнать его в какую-то клетку, где, скорее всего, не будет ошибок, но невозможен и творческий рост.
При всей бесперспективности второго варианта многие родители из-за страха за будущее предпочитают именно его. Если говорить о переживании верующими родителями антицерковного бунта, то я помню случаи, когда люди пытались силком потащить ребенка на исповедь, либо отправить в православный лагерь с жесткой дисциплиной в надежде, что там он научится регулировать свое повеление.
Как правило, этого не происходит, подросток все равно находит способ обойти сдерживающие механизмы, продолжает собственные мировоззренческие искания, осмысляет свои отношения с Богом. Если же он не находит возможности для такого осмысления, то, бывает, жестко рвет отношения. Такие подростки либо идут на открытый конфликт, либо, что хуже, уходят в скрытую оппозицию, когда внешне все атрибуты на месте (платочки, смиренный взгляд, елейный голосок), но при первой возможности идут в еще больший «разнос», чем их товарищи, бунтующие открыто. Любое игнорирование взрослыми потребностей подростка, в том числе и потребности в выстраивании своих смыслов, своей философии, ведет к психологическим проблемам.
О современных подростоках и их родителях
— Митрополит Антоний Сурожский говорил, что часто люди составляют проект, которому должен соответствовать другой человек. Например, родители заранее знают, в чем счастье их детей. Часто ли причиной конфликтов поколений и отчуждения детей становится их несоответствие родительскому сценарию?
— Мне кажется, у любого нормального родителя есть какие-то представления и идеи о том, что должно получиться из его ребенка. Совсем без таких представлений воспитывать детей невозможно. Невозможно требовать от родителей стопроцентной спонтанности и радости от любого самовыражения ребенка. Хорошо, что есть идеи – они задают какие-то семейные традиции.
Но все мы рождаемся с разными способностями, склонностями, особенностями нервной системы, и часто происходящее с ребенком не соответствует родительским ожиданиям. Вот если родители не хотят гибко реагировать на эту данность, возникают сложности, иногда приводящие к серьезным конфликтам.
Лучше сразу разобраться в причинах такого несоответствия. Дело может быть не только в ребенке – родителям хорошо бы понять мотивы, по которым у них сложились именно такие представления о воспитании. Ведь не секрет, что иногда первичной бывает не любовь к ребенку, а желание что-то доказать маме или подругам.
А иногда проблемное поведение подростка является следствием, реакцией на то, что происходит кризис в родительской паре. Вот и надо постараться понять, где выяснения отношений с родственниками и знакомыми, а где судьба ребенка, которая, надеюсь, дороже всех обид и конкуренции. Здесь может помочь визит к семейному психологу, исследование происходящих в семье событий.
Может быть, не совсем подходящее сравнение, но мне вспомнилось, как у Куклачева спросили, почему у него все так хорошо получается. И он ответил, что всегда следит, у какой кошки к чему есть предрасположенность, и он за этим следует, а не мучает животное в угоду своим идеям. По-моему, для воспитания человека такой принцип тем более подходит. Если родители чутко следят за интересами и способностями ребенка, больше шансов, что он будет развиваться гармонично.
— Родители сами были детьми, подростками. Почему же им часто не удается понять, что проблемы их детей связаны с возрастом? Забыли о своем детстве или наша информационная эпоха породила новые проблемы?
— Оба фактора играют роль. Многое из своего детства действительно с годами забывается. Довольно часто мама, жалуясь на ребенка, говорит, что в ее детстве ничего подобного не было, а когда начинаем с ней беседовать, выясняется, что и конфликты с родителями у нее случались, и в рискованные ситуации попадала. Когда мама это вспоминает, сама себе удивляется. Мифы относительно своего прошлого, конечно, мешают наладить диалог с детьми, понять их проблемы.
Но и контекст изменился. Если 200 лет назад люди из поколения в поколение жили примерно одинаково, одним укладом, то сейчас цивилизационные сдвиги происходят в течение жизни одного человека. В этом смысле родители и дети живут буквально в разных цивилизациях – на одной территории, но способы организации жизни у них сильно отличаются. Тем не менее есть вещи, объединяющие людей из разных цивилизаций. Например, еда или поездка на море. Вещи довольно приземленные, но через них можно прийти к совместным более глубоким интересам. Только для того чтобы встреча поколений произошла, и от взрослых и от подростков требуются творческие усилия. В этом вызов времени.
Еще одна особенность нынешней эпохи состоит в том, что авторитарная система воспитания, возможно, подходила для советской цивилизации, но если так воспитывать ребенка сегодня, похоже, ему в современном мире будет сложно. Сейчас чтобы быть успешным, нужно уметь гибко реагировать на нестандартные ситуации и иметь навык переговоров. И где же его приобретать, если не в семье?
Беседовал Леонид Виноградов
Читайте также:
www.pravmir.ru
О чем молчат подростки? Интервью с психологом

Подростковый возраст полон противоречий. Зачастую именно в этот переходный период теряется связь между родителем и ребенком, а извечный конфликт «отцов и детей» достигает точки кипения. Между взрослыми и детьми растет недосказанность, появляется отчужденность… Подростки чувствуют себя одинокими, взрослые с непониманием, а то и раздражением, воспринимают депрессивное настроение детей, и нередко помочь семье вновь обрести гармонию может только психолог. «Я Родитель» встретился с психологом ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГБУЗ МО «Долгопрудненская Центральная Городская Больница» Еленой Шалашугиной и узнал, с какими вопросами чаще всего к ней обращаются подростки и их родители.
«Главное – не занимать позицию страуса!»
— Елена, в каком возрасте начинается подростковый период?
— Подростковый период начинается с 11-12 лет (это младшие подростки) и заканчивается 16-17 годами (старшие подростки).
— Кто чаще приходит к вам на консультацию в этот период — родители или подростки?
— Как правило, детей этого возраста на консультацию приводят родители, и подавляющее большинство подростков согласно с тем, что им нужна помощь. Однако есть и такие, которые обращаются к психологу по собственной инициативе. Родители, конечно, в курсе и не против, но все же от личной встречи со специалистом «открещиваются» тотальной занятостью.
— Можно ли выделить основные группы вопросов, с которыми приходят и дети, и взрослые?
— Я бы выделила две большие группы. Первая группа – это все, что связано с проявлениями различных невротических расстройств (обкусанные ногти, плохой сон, тревожность и т.п.) и «гремучей смесью» из неврологических и психологических особенностей ребенка. Это и головные боли, и сильная утомляемость, и плохая успеваемость. Еще к этой группе я бы отнесла состояния, близкие к психотическим. В этих случаях без помощи психиатра не обойтись.
— Можно ли выделить симптомы психического расстройства? Как понять родителям, что является признаком психического расстройства, что просто можно отнести к поведенческому настроению, которое со временем пройдет?
— Честно говоря, я не сторонница того, чтобы родители самостоятельно проводили какую-либо диагностику психического состояния своего ребенка. Это связано с тем, что границы между нормой и патологией – особенно в подростковом возрасте в силу определенных физиологических нюансов пубертата – чрезвычайно размыты. И такой, например, симптом, как наличие несуществующего друга (подруги) может присутствовать и у психически здорового ребенка, и у ребенка с намечающейся психопатологией, поэтому, если родителей беспокоит психологическое и психическое состояние их отпрыска, лучше для начала показать его психологу, а тот уже, если понадобится, направит его к психоневрологу или психиатру.
Тем не менее, когда ребенок начинает замыкаться, избегать общения со сверстниками (именно со сверстниками, поскольку для подростков избегать общения с родителями вполне нормально), демонстрировать аутоагрессивное поведение – рвать на себе волосы, например, – стоит поторопиться с визитом к врачу-психотерапевту.
Примеры обращений к психологу:
| Подросток | Родители |
|---|---|
«Я не могу выйти на улицу. Страшно» «Я слышу голоса» |
«Он надо мной издевается!» «У всех дети как дети, а этот!» |
Родители таких клиентов, к сожалению, мало что могут сообщить на консультации о внутреннем мире своего ребенка, поскольку подросток не делится с ними своими переживаниями. Почему? Потому что страшно. Причем, часто сами родители необоснованным обесцениванием чувств и переживаний ребенка («Ну что ты, как маленький!», «Опять со своими барабашками разговариваешь?» и т.п.) внушают ему, что он какой-то не такой. В результате для подростка внутренние необычные проявления могут оказаться слишком пугающими: «Вдруг меня упекут в психбольницу?». И родители, видя, что с их чадом творится что-то неладное, не представляют, чем ему помочь.
— Как вести себя родителям?
— Главное – не занимать позицию страуса, отрицая неприятную реальность. Сами понимаете: проблемы от того, что мы их «в упор не видим», никуда не деваются. В таких ситуациях самим родителям необходимо получить психологическую поддержку, а уже потом совместными силами помогать ребенку. Нужно помнить, что если дебют какого-либо психического заболевания случается в подростковом возрасте, то с этим вполне можно справиться, и дальше развитие личности пойдет без патологий.
«Задача подросткового возраста – отделение от родителей»
— Как можно охарактеризовать следующую группу вопросов подросткового периода?
Вторая группа – это детско-родительские отношения, и здесь тоже все очень непросто. И если в первой группе особенности поведения ребенка могут быть обусловлены фактором наследственности (имеются родственники с психическими расстройствами), то проблемы второй группы связаны с внутрисемейным взаимодействием.
Кроме того, в подростковом возрасте напоминают о себе все нерешенные проблемы дошкольного детства, а ведь у подросткового возраста есть и своя задача – отделение от родителей для активного поиска себя, своего места в мире. Отделение необходимо, чтобы подросток по-настоящему ощутил ответственность за самостоятельно предпринятые шаги в любой области, в том числе в области собственного здоровья. Родители же далеко не всегда готовы к взрослению своего ребенка, и вот тогда начинаются конфликты — от бойкотирования ребенком просьбы до ухода из дома.
— Как воспринимать подобные действия родителям? Ведь грубость и отрицание действительно свойственны подросткам в этом возрасте.
— Воспринимать как сигнал для смены старой системы детско-родительских отношений на новую, в которой ребенок для родителя становится больше партнером, другом, чем подчиненным. Авторитет родителей стремительно падает, и фразы типа «Потому что я так сказала…» лишь провоцируют у подростка агрессию и протестные отношения. При этом жизненного опыта, опыта эффективной коммуникации, конструктивного выхода из конфликтов у подростка нет (впрочем, как и многой жизненно необходимой информации). Так что родители, вооружившись терпением, знаниями и памятуя о том, что ребенок, несмотря на гормоны и «бунтарский дух» любит их ничуть не меньше, смогут вместе с подростком преодолеть 6-7 лет пубертата без особых потерь.
Примеры обращений к психологу:
| Подросток | Родители |
|---|---|
|
«Я хуже всех» «У меня не получается общаться с мальчиками/девочками» |
«Я не могу им управлять!» «Он не учится» «Он ничего не хочет и ни к чему не стремится» |
Когда ребенок приходит на консультации с подобными жалобами — это знак того, что в семье не было решено много проблем, и очень часто наши клиенты — дети разведенных родителей.
В полных семьях тоже есть проблемы, но там они решаются быстрее, потому что там у ребенка есть база, на которую можно опереться, есть понимание того, что мир – это место безопасное, поскольку родители демонстрируют любовь и уважение и друг к другу, и к ребенку.
А если этой базы нет, значит, ребенок пережил предательство, как минимум, одного из родителей. Я ни в коем случае не хочу сказать, что разводиться нельзя. Формула «счастья» «живите и терпите ради детей» абсолютно не работает. Но! Развод должен проходить грамотно. Да, мужчина и женщина не могут больше жить вместе как муж и жена, но они не должны забывать о том, что родителями своих детей они останутся на всю жизнь. И разводятся муж с женой, а не папа с ребенком или мама с ребенком. Таким образом, если оставшийся с ребенком родитель начинает нагнетать обстановку и очернять родителя, который ушел, это очень травмирует ребенка, потому что тот все равно любит и маму, и папу. Перетягивание каната одним из родителей приводит к комплексным нарушениям личности ребенка, в том числе к большим трудностям в межличностном взаимодействии.
Родители, однако, видят лишь верхушку этого айсберга и приходят с тем, что «Он ничего не хочет и ни к чему не стремится».
«Они знают гораздо больше, чем мы думаем!»
— Советы родителям?
— Во-первых, научиться расставлять приоритеты и находить время на общение с подростком. Если и папа, и мама работают по 20 часов в сутки, то в один не самый прекрасный день они обнаружат в квартире совершенно постороннего человека – собственного ребенка, про которого они ничего не знают, и не понимают, с кем он дружит, чем увлекается, не принимает ли наркотики.
Во-вторых, постоянно наблюдать за своим ребенком, потому что не все системы воспитания одинаково полезны: кому-то нужна строгость, а кого-то она может напугать.
В-третьих, не бить ребенка. Физическое наказание не способствует тому, что ребенок усвоит что-то полезное. Зато агрессия на родителя будет аккумулироваться с невероятной скоростью, так как физическое наказание – это всегда унижение. А унижая, высокую мысль вложить нельзя.
— Можно ли напоследок выделить группу проблем, характерных для нашего с вами времени, проблем, с которыми раньше не обращались к психологу?
— Разумеется, это интернет. Родители сейчас в большинстве случаев «спихивают» любые проблемы, возникшие у ребенка, именно на его интернет-общение, хотя я бы не стала занимать в этом вопросе категорическую позицию. Дело в том, что «питательная среда» для развития личности в подростковом возрасте (мы сейчас говорим о средних и старших подростках) – это межличностное общение. И если по каким-то причинам не удается общаться «вживую», то, естественно, подросток «виснет» в интернете. Запрещать общение в соцсетях в подростковый период бессмысленно. Зато создание дома благоприятной обстановки для общения с друзьями, искренний интерес к увлечениям подростка, уважительное отношение к его мнению очень быстро отодвинут интернет на десятое место. А вот контроль подростка, «незаконное» прочтение его переписки, рано или поздно приведет к тому, что пропадет доверие между родителем и ребенком, и все это может обернуться печальными последствиями для обоих.
— Так все-таки подростки — кто они?!И как характеризовать подростковый период?
— Они знают гораздо больше, чем мы думаем! Подросток – уже не ребенок, но еще не взрослый. Помогая ему обретать себя, участвуя с ним в его поисках собственного «Святого Грааля», становишься свидетелем поистине небывалой метаморфозы. И чем более чуткими и внимательными будут родители к своим детям в этот сложный и для тех, и для других период, тем гармоничнее и человечнее будет новое поколение.
Беседовала Влада Ворона
Подросток не хочет общаться, у вас не получается мирно договориться – как быть в такой ситуации? Пройдите тест и получите информацию об особенностях вашего стиля воспитания и о взгляде подростка на то, как вы его воспитываете.
Пройти тестwww.ya-roditel.ru


