Расщепленное сознание: как подсознание защищает нас от самих себя — T&P
как подсознание защищает нас от самих себя — T&P
Мы, как правило, не замечаем, как много действий совершаем машинально: например, водитель, проезжая по привычному маршруту дом — работа, вряд ли вспомнит, как включил поворотник и повернул на другую улицу. В этот момент ситуацию на дороге контролирует только подсознание, пишет невролог Элиэзер Штернберг в книге «НейроЛогика: Чем объясняются странные поступки, которые мы совершаем неожиданно для себя». T&P публикуют фрагмент о том, как работает система привычки и непривычки, в каких случаях нам лучше полагаться на подсознание и что такое синдром расщепленного мозга.
Смотреть и не видеть
«Нейрологика: Чем объясняются странные поступки, которые мы совершаем неожиданно для себя»
Водитель, увлеченный своими мыслями, не помнит, как добирался до места, не помнит, как решил остановиться на красный свет или включить поворотник. Он действует на автопилоте. Представьте ситуацию, когда водитель, едва не попав в аварию, внезапно пробуждается от своих грез и резко жмет на тормоза. Автомобиль с визгом останавливается в паре сантиметров от почтового фургона. Немного успокоившись, водитель обдумывает произошедшее. У него нет ощущения, что он отвлекся лишь на секунду. Кажется, все намного серьезнее. У него возникает чувство, будто его сознание не принимало в процессе вождения ровным счетом никакого участия. Уйдя в свои мысли, он будто ослеп.
Автомобиль с визгом останавливается в паре сантиметров от почтового фургона. Немного успокоившись, водитель обдумывает произошедшее. У него нет ощущения, что он отвлекся лишь на секунду. Кажется, все намного серьезнее. У него возникает чувство, будто его сознание не принимало в процессе вождения ровным счетом никакого участия. Уйдя в свои мысли, он будто ослеп.
Эти ощущения подтверждаются научными исследованиями. В ходе одного из экспериментов испытуемых посадили за автосимулятор и надели на них гарнитуру. Они должны были управлять автомобилем и одновременно говорить по телефону. Симулятор был снабжен объемной картой небольшого города со спальными, офисными и деловыми районами (более 80 кварталов). Вдоль городских дорог стояло немало рекламных щитов с крупными и выразительными надписями. Немного потренировавшись в управлении виртуальным автомобилем, испытуемые отправлялись в путешествие по заранее обозначенным маршрутам, соблюдая все дорожные правила. Во время езды они говорили по телефону при помощи гарнитуры. Далее испытуемые прошли тест: нужно было отметить, какие из рекламных щитов встречались им на пути. Их ответы сравнили с ответами тех участников эксперимента, которые ехали по тому же маршруту, но без телефона. Нетрудно догадаться, что участники, чье внимание было занято разговором по мобильнику, справились с тестом хуже, чем те, кто был всецело сосредоточен на вождении. И хотя рекламные щиты стояли на самых видных местах, испытуемые, разговаривавшие по телефону, попросту не заметили их.
Далее испытуемые прошли тест: нужно было отметить, какие из рекламных щитов встречались им на пути. Их ответы сравнили с ответами тех участников эксперимента, которые ехали по тому же маршруту, но без телефона. Нетрудно догадаться, что участники, чье внимание было занято разговором по мобильнику, справились с тестом хуже, чем те, кто был всецело сосредоточен на вождении. И хотя рекламные щиты стояли на самых видных местах, испытуемые, разговаривавшие по телефону, попросту не заметили их.
Как такое могло произойти? Неужели участники не смотрели на рекламные щиты? Чтобы найти ответ, ученые надели на испытуемых айтрекеры. С помощью этих приборов удалось выяснить, что, даже увлекшись разговором по мобильнику, водители не переставали активно замечать все, что появлялось на пути. Их взгляд перемещался и фокусировался на всех важных объектах, включая дорожные знаки, другие автомобили и даже рекламные щиты. Странно. Водители с гарнитурой видят те же объекты, что и водители без телефонов, но не могут вспомнить, что же они видели. Как это объяснить? Теория такова: глаза испытуемых действительно смотрят на объекты, однако водители настолько поглощены общением, что не в полной мере осознают увиденное.
Как это объяснить? Теория такова: глаза испытуемых действительно смотрят на объекты, однако водители настолько поглощены общением, что не в полной мере осознают увиденное.
Но если такие крупные и заметные дорожные объекты, как рекламные щиты, можно пропустить из-за какого-то разговора, почему же не растет число аварий? Ведь люди постоянно говорят за рулем — либо с пассажирами, либо по телефону. Как же у нас получается вести машину и разговаривать одновременно, если разговоры влияют на нашу способность видеть? Очевидно, что осознавать увиденное необходимо, чтобы соблюдать дистанцию между машинами, ехать в своем ряду, поворачивать и вообще выполнять все те действия, благодаря которым можно добраться до дома, не уничтожив собственную машину по пути. Тем не менее эксперименты демонстрируют, что, хотя наш взгляд и переключается с одного дорожного объекта на другой, мы зачастую не обдумываем увиденное.
Но если сознательное зрительное восприятие отключается, то что же контролирует наш взгляд? Мозг заботится об этом подсознательно.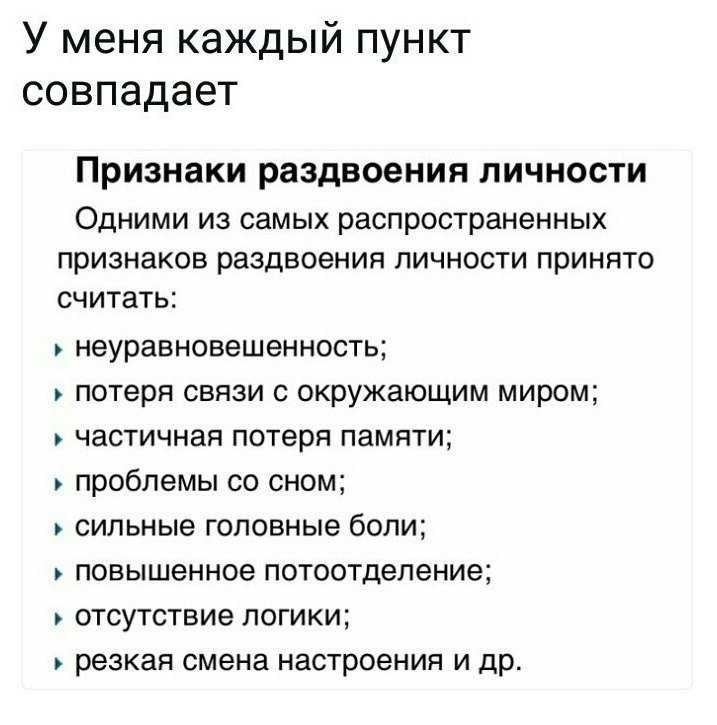 Подсознание инициирует движения глаз, необходимые для того, чтобы следить за машинами, дорожными знаками и уберегать водителя и пассажиров от повреждений. Вот почему аварий не становится больше. Вот почему занятые своими мыслями водители добираются до нужной им точки невредимыми. Хотя увиденное и не осознается в полной мере, мозговые подсознательные процессы берут зрительную систему под контроль и ведут нас к месту назначения. Этот пример показывает, как нарушается связь между сознанием и зрением. Зрительная система работает, поскольку автомобиль не выходит из повиновения, но водитель не осознает, что видит объекты.
Подсознание инициирует движения глаз, необходимые для того, чтобы следить за машинами, дорожными знаками и уберегать водителя и пассажиров от повреждений. Вот почему аварий не становится больше. Вот почему занятые своими мыслями водители добираются до нужной им точки невредимыми. Хотя увиденное и не осознается в полной мере, мозговые подсознательные процессы берут зрительную систему под контроль и ведут нас к месту назначения. Этот пример показывает, как нарушается связь между сознанием и зрением. Зрительная система работает, поскольку автомобиль не выходит из повиновения, но водитель не осознает, что видит объекты.
Определенные неврологические отклонения подтверждают тот факт, что зрительная фиксация и осмысление увиденного — это разные процессы. […]
© spfdigital / iStock
Сосредоточиться не сосредотачиваясь
Что, если в случаях, когда мы пытаемся совершать несколько действий одновременно, например говорить по телефону и вести машину, за работу берутся не обе системы, а всего одна, которая и распределяет свои усилия между двумя задачами? При таком раскладе наша успешность зависит от того, сколько внимания мы уделяем каждому из действий.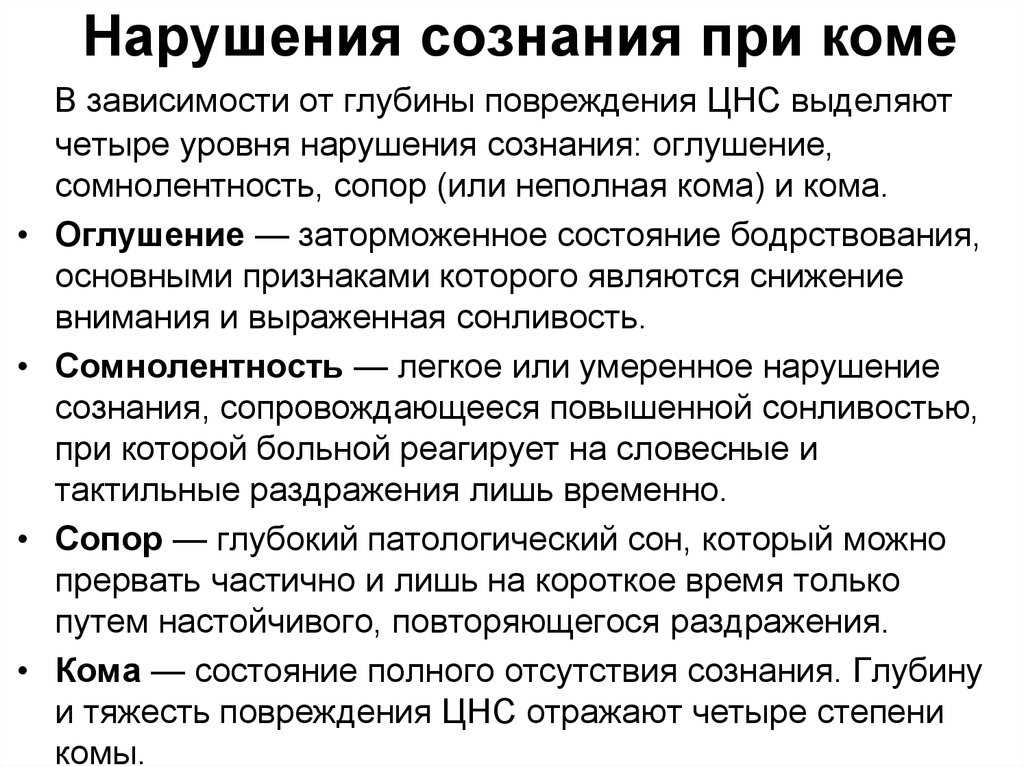 Чем больше внимания, тем лучше получается. Но данная схема не применима к работе системы привычки. Если какое-нибудь действие доведено у нас до автоматизма, в большинстве случаев лучше не уделять ему существенного внимания.
Чем больше внимания, тем лучше получается. Но данная схема не применима к работе системы привычки. Если какое-нибудь действие доведено у нас до автоматизма, в большинстве случаев лучше не уделять ему существенного внимания.
10 февраля 2011 года баскетболист Рэй Аллен, в то время член команды Boston Celtics, совершил 2561-й точный трехочковый бросок, побив рекорд, который до него установил Реджи Миллер. Все те годы, что Аллен состоял в НБА, он славился своим отношением к работе. Рэй часто приезжал на стадион часа за три до начала игры, чтобы потренироваться. В одном интервью у Аллена спросили, как ему удалось достичь такого успеха и что происходит у него в голове, когда он бросает мяч. Баскетболист ответил так: «Как только начнешь целиться — непременно промахнешься. Во время игры нельзя забывать об этом. Надо найти на поле такую точку, с которой уже не нужно прицеливаться — достаточно только подпрыгнуть и точным движением рук отправить мяч прямиком в корзину».
Для Рэя Аллена броски стали привычкой. Возможно, именно это спортсмены имеют в виду, когда говорят о мышечной памяти. Метод, с помощью которого Аллен сосредотачивается на важном броске, состоит в том, чтобы не сосредотачиваться на нем. Если же он слишком много думает о том, как бросить мяч, он промахивается. Лучше всего он играет тогда, когда поручает системе привычки выполнять все то, в чем он натренировался.
Возможно, именно это спортсмены имеют в виду, когда говорят о мышечной памяти. Метод, с помощью которого Аллен сосредотачивается на важном броске, состоит в том, чтобы не сосредотачиваться на нем. Если же он слишком много думает о том, как бросить мяч, он промахивается. Лучше всего он играет тогда, когда поручает системе привычки выполнять все то, в чем он натренировался.
То же самое применимо и к другим спортсменам. В ходе эксперимента с участием талантливых гольфистов испытуемые ударяли по мячу дважды. В первом случае они намеренно сосредотачивались на механике движения клюшки, внимательно отслеживали, с какой силой бьют по мячу, тщательно прицеливались. Во втором случае гольфисты не думали об ударе вообще. Как только они вставали с клюшкой перед мячом, их отвлекали другим заданием: просили слушать записи звуков и ждать определенного сигнала, опознать его и сообщить об этом. Затем ученые сравнили результаты. Как правило, мяч оказывался ближе к лунке в тех случаях, когда игроки не думали об ударе. Гольфисты, как и Рэй Аллен, играли лучше, если не задумывались о том, что делают.
Гольфисты, как и Рэй Аллен, играли лучше, если не задумывались о том, что делают.
Выявленная зависимость успеха спортсменов от того, что ими руководит — привычка или сознание, подтверждает идею о существовании в мозге двух параллельных систем, контролирующих поведение. Повторяя одно и то же действие, мы можем довести его до автоматизма, и тогда система привычек возьмет верх. Наше сознание освободится и с помощью системы непривычки сможет сконцентрироваться еще на чем-нибудь.
Разделение труда между двумя системами мозга не ограничивается лишь баскетболом или гольфом. Самые тонкие нюансы поведения могут регулироваться привычкой или ее отсутствием, и порой разница очень заметна. […]
© tifonimages / iStock
Разделенный мозг
Есть одна операция, показанная людям, страдающим от сильных, неконтролируемых приступов эпилепсии. Она называется каллозотомия и представляет собой рассечение мозолистого тела, пучка нервных волокон, соединяющего правую и левую части мозга. Поскольку приступы — это, по сути, электрические бури, проносящиеся по нервным пучкам мозга, отделение его частей друг от друга мешает электричеству распространиться и охватить оба полушария. Эта процедура — крайняя мера, которая помогает пациенту с неконтролируемыми припадками, но она приводит к странным побочным эффектам.
Поскольку приступы — это, по сути, электрические бури, проносящиеся по нервным пучкам мозга, отделение его частей друг от друга мешает электричеству распространиться и охватить оба полушария. Эта процедура — крайняя мера, которая помогает пациенту с неконтролируемыми припадками, но она приводит к странным побочным эффектам.
Наиболее известный и неприятный из них — синдром расщепленного мозга. Спросите Викки, которой сделали эту операцию в 1979 году. Многие месяцы после операции две части ее мозга действовали независимо друг от друга. Например, в супермаркете она замечала, что, когда тянется за каким-нибудь продуктом правой рукой, ее левая рука действует абсолютно самовольно. «Я потянулась правой [рукой] за тем, что мне было нужно, но левая вмешалась, и они начали бороться. Почти как магниты с противоположными полюсами», — рассказывает Викки.
То же самое происходило каждое утро. Викки подбирала себе комплект одежды, но одна из рук вдруг хватала совершенно ненужную вещь. «Мне приходилось высыпать всю свою одежду на кровать, выдыхать и вновь браться за дело», — говорит она.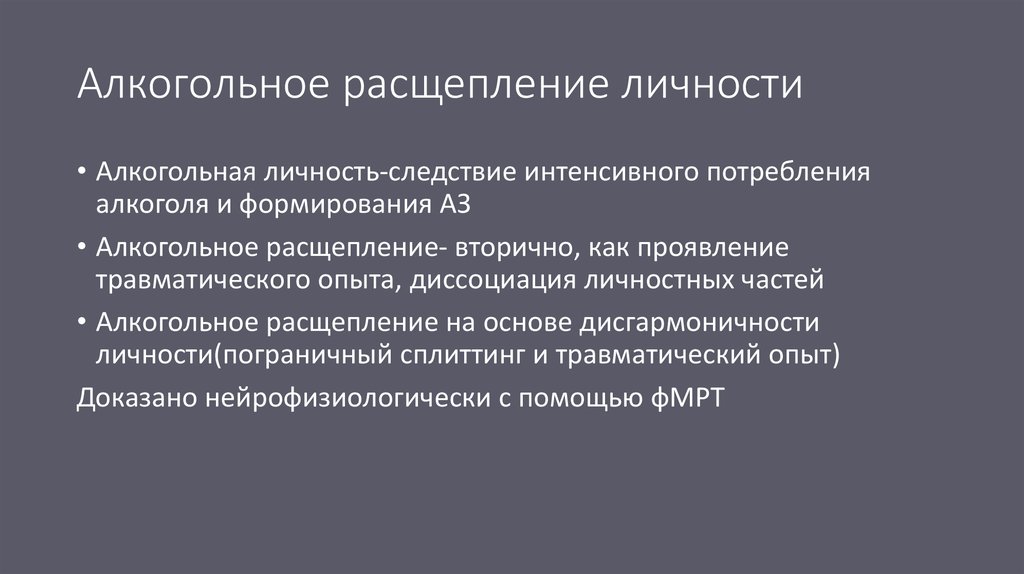 Однажды Викки так устала от всего этого, что не стала сопротивляться и вышла из дома сразу в трех комплектах одежды.
Однажды Викки так устала от всего этого, что не стала сопротивляться и вышла из дома сразу в трех комплектах одежды.
Синдром расщепленного мозга — это состояние, при котором разделенные полушария мозга начинают действовать самостоятельно. Викки страдала от синдрома чужой руки*. Этот синдром, помимо прочего, непосредственно связан с синдромом расщепленного мозга, поскольку правая часть мозга контролирует левую руку, а левая часть — правую. Этот перекрестный контроль относится и к зрению: правая часть мозга обрабатывает информацию о том, что находится в левой стороне зрительного поля, и наоборот. Более того, левая часть мозга (у правшей) контролирует речь. Каждая часть расщепленного мозга обладает своим уникальным набором возможностей, который нельзя передать другой части. Например, если, задействуя левое полушарие, Викки прочитывает слово, находящееся в правой части зрительного поля, она может сказать его вслух, потому что левая часть мозга контролирует устную речь. Но когда то же самое слово появляется в левой части зрительного поля, где его замечает лишь правое полушарие, Викки не может его произнести, но зато может взять ручку и записать.
Например, если, задействуя левое полушарие, Викки прочитывает слово, находящееся в правой части зрительного поля, она может сказать его вслух, потому что левая часть мозга контролирует устную речь. Но когда то же самое слово появляется в левой части зрительного поля, где его замечает лишь правое полушарие, Викки не может его произнести, но зато может взять ручку и записать.
«Мозг обладает склонностью к заполнению пустот в наших мыслях и ощущениях, когда они оказываются незавершенными»
Невролог Майкл Гадзанига, ведущий специалист в области исследования расщепленного мозга, уже пять десятилетий занимается этим вопросом. В ходе работы, обнаруживая у полушарий различные и уникальные функции, Гадзанига задумался о том, существует ли у каждого полушария обособленное самовосприятие. Обеим половинам мозга доступны их собственные наборы ощущений и умений, но есть ли у каждой части свое сознание, способное обдумывать и принимать решения?
В 1960-х годах, когда Гадзанига начинал свои исследования, он думал, что есть. В конце концов именно к такому выводу подталкивает история Викки про супермаркет. Однако впоследствии он убедился, что две части мозга все же составляют единое «Я». Несмотря на отсутствие доступа к тому, что знает и делает другое полушарие, две половины мозга работают сообща, чтобы обеспечить целостность личности.
В конце концов именно к такому выводу подталкивает история Викки про супермаркет. Однако впоследствии он убедился, что две части мозга все же составляют единое «Я». Несмотря на отсутствие доступа к тому, что знает и делает другое полушарие, две половины мозга работают сообща, чтобы обеспечить целостность личности.
В ходе одного из экспериментов Гадзанига показал пациенту с расщепленным мозгом слово «ходить», поместив это слово в левую часть зрительного поля, — так чтобы слово было воспринято правым полушарием. Пациент поднялся и пошел. Когда его спросили, почему он так сделал, он объяснил: «Мне захотелось сходить за колой». Левая сторона мозга, ответственная за речь, придумала это объяснение, потому что ничего не знала о том, что пациент увидел слово «ходить». Об этом было известно лишь правой стороне. А левое полушарие просто придумало аргумент.
Вот еще пример. Гадзанига показал правой части мозга пациентки изображение яблок. Увидев его, женщина рассмеялась. Когда ее спросили, в чем причина смеха, она ответила «Кажется, аппарат был очень уж смешной», имея в виду устройство, показывающее картинку. Когда Гадзанига продемонстрировал то же изображение левой части ее мозга, она снова рассмеялась и быстро показала на изображение обнаженной женщины, скрытое среди яблок.
Когда Гадзанига продемонстрировал то же изображение левой части ее мозга, она снова рассмеялась и быстро показала на изображение обнаженной женщины, скрытое среди яблок.
И наконец в ходе одного из своих любимых экспериментов Гадзанига показал слово «улыбка» правому полушарию пациента с расщепленным мозгом и слово «лицо» — левому. Затем он попросил пациента нарисовать, что тот видел. Пациент изобразил улыбающееся лицо. Когда Гадзанига спросил почему, пациент ответил: «А вы что, грустное лицо хотите? Кому охота смотреть на грустные лица?» Левая часть мозга не видела слово «улыбка», поэтому испытуемому пришлось придумать объяснение, почему лицо улыбается.
Во всех этих случаях левая часть мозга (ответственная за речь) не имела понятия о том, что видит правая часть, но талантливо изобретала логичные объяснения хождению, смеху и улыбке на нарисованном лице. Столкнувшись с противоречивыми сведениями, мозг стал заполнять пустоты. Если обе части мозга — это отдельные самостоятельные единицы, зачем им сотрудничать подобным образом? Почему бы не оправдаться незнанием?
Даже после хирургического разделения половинки мозга не делаются совершенно самостоятельными единицами. Они находят способ сохранить единство нашего «Я». Гадзанига сводит этот феномен к усилиям левого полушария, поскольку в его экспериментах именно эта часть мозга изобретала все аргументы. Он сформулировал гипотезу, по которой в левой части мозга существует «левополушарный интерпретатор», который пытается сложить воедино все, что происходит с нами изо дня в день, и сконструировать связное и логичное повествование. Гадзанига признает результаты огромного количества упомянутых нами исследований, подтверждающих, что наше «Я» формируется в правом полушарии, но заявляет, что самовосприятие обеспечивается всем мозгом — и левое полушарие здесь играет важнейшую роль. Оно связывает фрагменты нашего опыта в личные истории, руководствуясь тем, что мы называем нейрологикой. Как минимум в ходе экспериментов с участием пациентов с расщепленным мозгом именно левое полушарие устраняет пробелы.
Они находят способ сохранить единство нашего «Я». Гадзанига сводит этот феномен к усилиям левого полушария, поскольку в его экспериментах именно эта часть мозга изобретала все аргументы. Он сформулировал гипотезу, по которой в левой части мозга существует «левополушарный интерпретатор», который пытается сложить воедино все, что происходит с нами изо дня в день, и сконструировать связное и логичное повествование. Гадзанига признает результаты огромного количества упомянутых нами исследований, подтверждающих, что наше «Я» формируется в правом полушарии, но заявляет, что самовосприятие обеспечивается всем мозгом — и левое полушарие здесь играет важнейшую роль. Оно связывает фрагменты нашего опыта в личные истории, руководствуясь тем, что мы называем нейрологикой. Как минимум в ходе экспериментов с участием пациентов с расщепленным мозгом именно левое полушарие устраняет пробелы.
Существует ли на самом деле левополушарный интерпретатор и как он функционирует, еще предстоит выяснить. Тем не менее мы уже можем с уверенностью сказать, что в мозге работает система подсознания, которая, столкнувшись с противоречивыми сведениями, придумывает аргументы, примиряющие их. Подсознание действует так при соматоагнозии и синдроме Капгра. Оно вызывает синдром Котара и придумывает истории об инопланетных гостях. Оно заставляет шизофреников поверить в то, что за ними следят агенты ФБР или что их контролируют сверхъестественные силы. Оно становится источником конфабуляции и ложных воспоминаний. Оно придумывает наши сны.
Подсознание действует так при соматоагнозии и синдроме Капгра. Оно вызывает синдром Котара и придумывает истории об инопланетных гостях. Оно заставляет шизофреников поверить в то, что за ними следят агенты ФБР или что их контролируют сверхъестественные силы. Оно становится источником конфабуляции и ложных воспоминаний. Оно придумывает наши сны.
Мозг обладает склонностью к заполнению пустот в наших мыслях и ощущениях, когда они оказываются незавершенными. Каждый раз, когда мозг ликвидирует прореху, он делает это с конкретной целью: сохранить наше чувство себя. Подсознание всецело сосредоточено на защите нашей личной истории, стабильности человеческой идентичности.
«Расщеплённый» мозг работает как одно целое
После разделения полушарий человеческий мозг до какой-то степени сохраняет единое сознание.
Полушария нашего мозга соединены мощным сплетением нервных волокон, которое называется мозолистым телом. Кроме него, есть ещё несколько точек контакта, однако мозолистое тело – самый мощный «мост» между правым и левым полушариями, позволяющий им обмениваться информацией друг с другом.
Мозолистое тело в человеческом мозге. (Иллюстрация: Anatomography / Wikipedia / CC-BY-SA-2.1-jp.)
Трёхмерная модель мозолистого тела с нейронными отростками, которые входят в него с обоих полушарий. (Иллюстрация: andras_j / Flickr.com.)
‹
›
Открыть в полном размере
В сороковые годы прошлого века возникла идея, что, если рассечь мозолистое тело, можно победить эпилепсию. Как известно, эпилептический припадок развивается из-за того, что патологическая активность небольшой группы нейронов быстро распространяется на весь мозг – но если не будет межполушарного «моста», то и припадок остановится.
После опытов на животных такие операции стали проводить и на людях, и вскоре оказалось, что, хотя от эпилепсии действительно удавалось избавиться, у пациентов начинали проявляться некоторые когнитивные странности. Например, «правши» совершенно не могли писать левой рукой и рисовать правой; могли определить правой рукой, что за предмет они ощупывают, и выбрать такой же на картинке, но не могли его назвать и т. д. В итоге нейробиологи пришли к выводу, что рассечение мозолистого тела ведет к рассечению сознания на две части – правополушарное и левополушарное.
д. В итоге нейробиологи пришли к выводу, что рассечение мозолистого тела ведет к рассечению сознания на две части – правополушарное и левополушарное.
Однако в недавней статье, опубликованной в журнале Brain, говорится, что ситуация с сознанием здесь не совсем такая, как описано в классических работах на эту тему. Исследователи из Антверпенского университета вместе с коллегами из Университета Неймегена, Политехнического университета Марке и Оклендского университета попросили двух добровольцев с полностью рассечённым мозолистым телом пройти несколько когнитивно-психологических тестов.
Человека сажали перед экраном, на котором возникали разные объекты, и нужно было сказать, во-первых, появился или не появился тот или иной объект, и, во-вторых, в какой части экрана он появился; кроме того, предмет на экране нужно было назвать, а это, как считается, вызывает наибольшее затруднение при разрыве межполушарных связей.
Отвечать на вопросы участники эксперимента должны были устно и письменно, причём писать нужно было правой и левой рукой.
Например, если предмет появился слева, его увидело бы левое полушарие, и тогда левой рукой человек ответил бы «да», в смысле, предмет появился, тогда как правой рукой он написал бы «нет» – в смысле, что никакого предмета на экране нет. Точно так же должны были отличаться и устные ответы: речевой центр, который работает на доминантном полушарии, либо видел, либо не видел бы объект, в зависимости от его расположения.
Оказалось же, что вне зависимости от «правого» или «левого» появления предмета, его видели как бы целым мозгом: оба участника эксперимента отвечали «да» и устно, и письменно, обеими руками. Однако, например, сравнить два разных предмета, скажем, кружок и квадрат, они не могли: на вопрос, тот же ли самый объект они видят в правом и левом поле зрения, они отвечали «не знаю».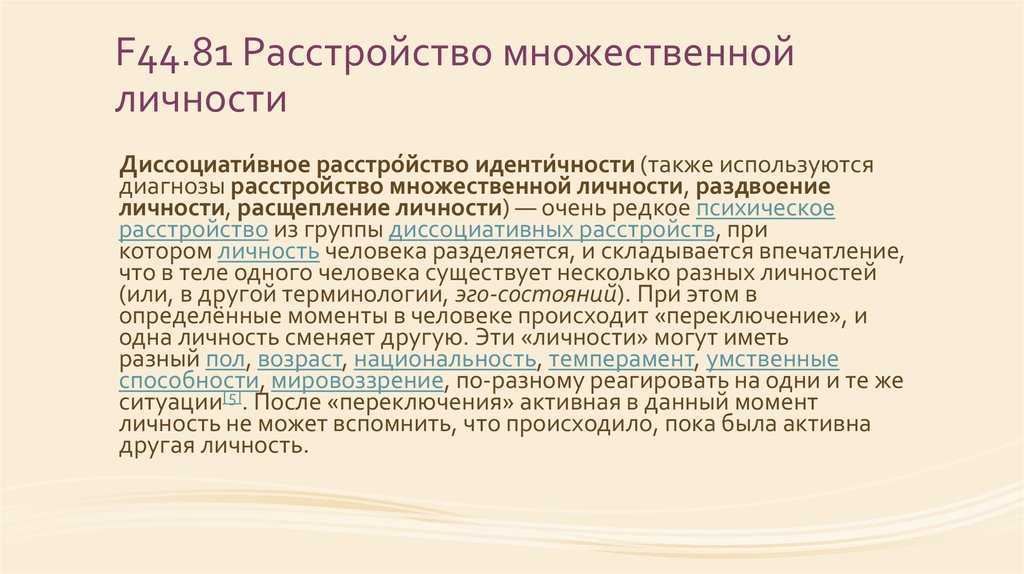
Это довольно сильно расходится с общепринятой точкой зрения, однако авторы работы настаивают на достоверности своих результатов. Объяснить, как так получается, можно будет только после новых исследований – если, конечно, для них получится найти добровольцев: такую операцию сейчас уже не делают, и число людей с «расщеплённым» мозгом по понятной причине быстро сокращается.
Разделение различий: Один человек, два разума — Источник
Каждый из них, несмотря на то, что они два мыслящих существа, являются одним из нас — один человек.
Это странное предложение для большинства, но только не для Лиззи Шехтер, доцента кафедры философии и философии-неврологии-психологии в области искусств и наук Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Шехтер исследует сознание, единство и разъединение разума и личностную идентичность. В своей готовящейся к изданию книге она рассматривает некоторых из самых интригующих пациентов-психологов, которые когда-либо участвовали в исследованиях, субъектов, у которых полушария мозга — и, возможно, разум — были разделены надвое.
В своей готовящейся к изданию книге она рассматривает некоторых из самых интригующих пациентов-психологов, которые когда-либо участвовали в исследованиях, субъектов, у которых полушария мозга — и, возможно, разум — были разделены надвое.
В своей книге «Самосознание и «расщепленный» мозг: умы I», которая будет опубликована 1 июня издательством Oxford University Press, Шехтер задает лингвистически простые, но метафизически загадочные вопросы: сколько разумов в одном теле здесь? Сколько людей?
Во второй половине 20 века хирурги провели десятки операций людям с тяжелой формой эпилепсии, чтобы уменьшить частоту и интенсивность приступов. Операция включала отсечение значительной части мозолистого тела, плотного пучка нервных волокон, соединяющих левое и правое полушария головного мозга, что облегчало связь и интеграцию мозга в нерассеченном мозге.
Операции прошли более или менее успешно, но эксперименты выявили необычные побочные эффекты.
«Два полушария начинают работать независимо друг от друга, — сказал Шехтер, — не полностью, но в необычной степени».
Например, каждая рука посылает тактильную информацию в противоположное полушарие; прикоснуться к чему-то левой рукой, и информация отправляется в правое полушарие, и наоборот. Если ваше мозолистое тело не повреждено, нет проблем. Информация проходит через эти нервы и доступна как левому, так и правому полушариям. Но странные вещи случаются, когда эта связь разрывается.
«Представьте, что пациенту с расщепленным мозгом завязывают глаза, чтобы он не видел, что вы кладете ему в руки, — сказал Шехтер. В левую руку они берут трубку. Справа ручка. Затем спросите их, что они держат.
«Они скажут: «Вы дали мне ручку в правой руке». Но если вы спросите их о левой руке, они скажут: «Я не очень хорошо ее чувствовал» или: «Моя левая рука». рука немного онемела». Это потому, что, по словам Шехтера, у большинства людей правое полушарие «немое», а речь обрабатывается в левом полушарии. Так как тактильная информация передается с одной руки на противоположное полушарие, больной не может озвучить любую информацию, полученную левой рукой.
«Но если сейчас дать испытуемому ручку и лист бумаги в левую руку и попросить еще раз, человек сможет нарисовать трубку. Они могут даже написать слово «трубка», — сказал Шехтер. «Они просто не умеют говорить.
«Это как если бы у субъекта вдруг появились два центра или потока сознания, контролирующие поведение; по одному, связанному с каждым полушарием», — сказала она. «Один из них может сообщить, написав или нарисовав рисунок, что нащупал трубку. Другой может сообщить письменно, или рисуя, или просто говоря, что чувствовал перо.
«Но как будто никто не чувствовал оба объекта».
Лично Шехтер быстро проводит полдюжины экспериментов, подобных этому, — некоторые даже, кажется, включают правое полушарие «обманывать», например, левая рука отслеживает ответ на тыльной стороне правой руки.
Несмотря на часто повторяющееся заявление исследователей о том, что за пределами лаборатории эти субъекты являются «социально нормальными», Шехтер ставит под сомнение это утверждение в своей книге. Исследование, проведенное с шестью субъектами с расщепленным мозгом, показало, что все они боролись со значительными и необычными поведенческими проблемами за пределами лаборатории: одна рука мешала другой, когда субъект пытался одеться; субъекты, столь парализованные нерешительностью — или это два разума боролись с конкурирующими намерениями? — что даже приготовление завтрака занимало часы.
Исследование, проведенное с шестью субъектами с расщепленным мозгом, показало, что все они боролись со значительными и необычными поведенческими проблемами за пределами лаборатории: одна рука мешала другой, когда субъект пытался одеться; субъекты, столь парализованные нерешительностью — или это два разума боролись с конкурирующими намерениями? — что даже приготовление завтрака занимало часы.
Так один разум или два? Один человек или два? Традиционные объяснения в философии склонны приписывать соотношение сознания и личности 1 к 1. Но в «Самосознании» Шехтер приводит доводы в пользу того, что она называет «примирением».
«Впечатление, что субъект с расщепленным мозгом имеет два разума, верно», — сказала она. «Но такое же впечатление, что субъект с расщепленным мозгом — это не просто два человека, связанные вместе. Они являются одними из нас в важном, психологическом смысле: в конце концов, каждый из них думает о себе как о «одном» из нас, а не как о двух существах, населяющих одно и то же тело».
Они не могут не думать так, сказала она. Они не могут жить как два различных психологических существа.
«Если бы субъект с расщепленным мозгом был отдельными людьми», то есть если бы каждый разум принадлежал отдельному человеку, «это означало бы, что субъект с расщепленным мозгом — это двое из нас. Но то, как два человека могут взаимодействовать и думать о себе, сильно отличается от того, как это могут делать два полушария.
«Это похоже на то, что они один из нас, — сказал Шехтер, — потому что они не двое из нас».
Две половины мозга видят мир совершенно по-разному : уколы
Две половины мозга видят мир очень по-разному : уколы — новости здравоохранения Хирургия , разрывающая связь между полушариями мозга у этих половинок разные взгляды на мир. Мы спрашиваем ученого-первопроходца, что это говорит нам о человеческом сознании.
Инвизибилиа
Слышали по всем вопросам
Керин Хига
Корни сознания: у нас два разума
Энджи Ван для NPR
Angie Wang для NPR
После того, как операция по лечению эпилепсии разорвала связь между двумя половинами ее мозга, левая рука Карен обрела собственное сознание, действуя против ее воли раздеться или даже дать ей пощечину. Удивительно, чтобы быть уверенным. Но что может быть еще более удивительным, так это то, что большинство людей, перенесших операцию по расщеплению мозга, вообще не замечают ничего другого.
Но это еще не все. В 1960-х годах молодой нейробиолог по имени Майкл Газзанига начал серию экспериментов с пациентами с расщепленным мозгом, которые навсегда изменили наше представление о человеческом мозге. Работая в лаборатории Роджера Сперри, впоследствии получившего Нобелевскую премию за свою работу, Газзанига обнаружил, что две половины мозга совершенно по-разному воспринимают мир.
Когда Газзанига и его коллеги показывали изображение перед правым глазом пациента, информация обрабатывалась в левом полушарии мозга, и пациент с расщепленным мозгом мог легко описать происходящее устно. Но когда перед левым глазом, который соединяется с правым полушарием мозга, вспыхивает изображение, пациент сообщает, что ничего не видит. Однако, если позволить правому полушарию реагировать невербально, оно могло искусно указывать или рисовать то, что видит левый глаз. Итак, правое полушарие знало, что оно видит; это просто не могло говорить об этом. Эти эксперименты впервые показали, что каждое полушарие мозга выполняет специализированные задачи.
В этом третьем выпуске Invisibilia ведущие Аликс Шпигель и Ханна Розин разговаривают с несколькими людьми, которые пытаются изменить свое второе «я», в том числе с мужчиной, который противостоит своим собственным предубеждениям, и женщиной, у которой редкое заболевание, вызывающее одно из руки, чтобы обрести собственную индивидуальность.
Я поговорил с Газзанигой о его основополагающих исследованиях и о том, что они могут рассказать нам о природе человеческого мозга и даже человеческого сознания. Он является директором Центра изучения разума SAGE в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и автором будущей книги «9».0003 Инстинкт Сознания
. Интервью было отредактировано для большей длины и ясности.Основные моменты интервью
Невероятно думать, что до тех пор, пока вы не провели эти эксперименты, никто не знал о латерализации мозга. Каково это сделать такое глубокое открытие?
До того, как мы провели наши эксперименты, казалось совершенно очевидным, что рассечение мозолистого тела не дает никакого эффекта. Карл Лэшли, влиятельный исследователь памяти, пошутил, что роль мозолистого тела заключается просто в том, чтобы «удерживать полушария от провисания».
Так что было довольно ошеломляюще наблюдать, как парень, который в остальном был таким же, как и все остальные, совершенно не знал своим левым полушарием о том, на что способно его правое полушарие. Вся информация в половине его поля зрения не могла быть описана словами. И все же правое полушарие, реагирующее невербально, осознавало, что информация была представлена. Это сбивает с толку. Если бы вы были свидетелем этого, поверьте мне, вы были бы просто ошеломлены. Вы бы сказали: «Я хочу понять это больше».
Вся информация в половине его поля зрения не могла быть описана словами. И все же правое полушарие, реагирующее невербально, осознавало, что информация была представлена. Это сбивает с толку. Если бы вы были свидетелем этого, поверьте мне, вы были бы просто ошеломлены. Вы бы сказали: «Я хочу понять это больше».
Так в чем же польза от такой специализации двух половин мозга?
Что ж, люди давно задавались вопросом о латерализации нервной системы, и существует много теорий, но в основном это неизвестно. До тех пор, пока вы не доберетесь до человеческого мозга, если вы посмотрите на обезьян и шимпанзе, оба полушария мозга выполняют в основном одни и те же функции. А затем у людей начинает проявляться огромное количество латеральной специализации. Одна простая идея, которую мы предложили, заключается в том, что у человека действительно больше способностей, чем меньше, и каждая из этих способностей занимает какое-то нервное пространство.
Если вы начинаете с нормального, неповрежденного мозга с продублированными элементами с каждой стороны, и вам нужно больше коркового пространства, чтобы добавить все новые, более высокие функции человеческого состояния, вы скажете: «Может быть, давайте переделаем некоторые из этих пространство и просто использовать одно полушарие, чтобы у нас было больше места для другой емкости».
Что такое «функции человеческого состояния»?
Что ж, со временем, по мере развития наших экспериментов, вместо того, чтобы просто просить пациентов назвать то, что они видели, мы просили их выбрать объекты или рисунки, соответствующие изображениям, которые мы им показывали, а затем просили их объяснить сами. Например, одному пациенту мы показывали правый глаз с изображением куриной клешни. Правая рука должна была выбрать соответствующий рисунок, и одна из них была курицей. Итак, куриный коготь, очевидно, идет с курицей. В то же время мы показали левому глазу снежную сцену Новой Англии. Левая рука должна была выбрать соответствующее изображение, и одно из них было лопатой, поэтому левая рука указывала на лопату.
После этого мы спросили пациента, как бы конфронтационно: «Зачем вы это сделали? Почему вы указали на курицу и лопату?» И пациент сказал: «Ну, куриная коготь идет с курицей, и вам нужна лопата, чтобы вычистить куриный сарай».
