Какой совет дает мама сыну в каждой части: Какой совет дает мама сыну в каждой части в рассказе михаила зощенко самое главное
М. Зощенко. Самое главное | Умники и умницы
О детях и для детей
Ответы к стр. 24
Михаил Зощенко
Самое главное
1
Жил на свете мальчик Андрюша Рыженький. Это был трусливый мальчик. Он всего боялся. Он боялся собак, коров, гусей, мышей, пауков и даже петухов.
Но больше всего он боялся чужих мальчишек. И мама этого мальчика очень и очень грустила, что у неё такой трусливый сынок.
В одно прекрасное утро мама этого мальчика сказала ему:
— Ах, как плохо, что ты всего боишься. Только храбрые люди хорошо живут на свете. Только они побеждают врагов, тушат пожары и отважно летают на самолётах. И за это все любят храбрых людей. И все их уважают. Дарят им подарки и дают ордена и медали. А трусливых никто не любит. Над ними смеются и потешаются. И от этого у них жизнь бывает плохая, скучная и неинтересная.
Мальчик Андрюша так ответил своей маме:
— С этих пор, мама, я решил быть храбрым человеком.
И с этими словами Андрюша пошёл во двор погулять.
2
А во дворе мальчишки играли в футбол.
Мальчишки эти обыкновенно задевали Андрюшу. И он их боялся как огня. И всегда от них убегал. Но сегодня он не убежал. Он крикнул им:
— Эй вы, мальчишки! Сегодня я не боюсь вас!
Мальчишки удивились, что Андрюша так смело им крикнул. И даже они сами немножко испугались. И даже один из них — Санька Палочкин — сказал:
— Сегодня Андрюшка Рыженький что-то задумал против нас. Давайте лучше уйдём, а то нам, пожалуй, попадёт от него.
Но мальчики не ушли. Наоборот. Они подбежали к Андрюшке, стали его задевать. Один дёрнул Андрюшку за нос. Другой сбил ему кепку с головы. Третий мальчик ткнул Андрюшу кулаком. Короче говоря — они немножко побили Андрюшу. И тот с рёвом вернулся домой.
И дома, утирая слёзы, Андрюша сказал маме:
— Мама, я сегодня был храбрый, но из этого ничего хорошего не получилось.
Мама сказала:
— Глупый мальчик. Недостаточно быть только храбрым, надо быть ещё сильным. Одной храбростью ничего нельзя сделать.
3
И тогда Андрюша незаметно от мамы взял бабушкину палку и с этой палкой пошёл во двор. Подумал: «Вот теперь я буду сильней, чем обычно. Теперь я разгоню мальчишек в разные стороны, если они на меня нападут». Андрюша вышел с палкой на двор. А на дворе мальчишек уже не было.
Там гуляла чёрная собака, которую Андрюша всегда боялся. Размахивая палкой, Андрюша сказал этой собаке:
— Попробуй только залай на меня — получишь по заслугам. Узнаешь, что такое палка, когда она прогуляется по твоей голове.
Собака начала лаять и бросаться на Андрюшу. Размахивая палкой, Андрюша раза два ударил собаку по голове, но та забежала сзади и немного порвала Андрюшины штаны.
И Андрюша с рёвом побежал домой. А дома, утирая слёзы, он сказал своей маме:
— Мама, как же это так? Я сегодня был сильный и храбрый, но из этого ничего хорошего не получилось. Собака разорвала мои штаны и чуть не укусила меня.
Мама сказала:
— Ах ты, глупый мальчонка! Недостаточно быть храбрым и сильным. Надо ещё иметь смекалку. Надо думать и соображать. А ты поступил глупо. Ты размахивал палкой и этим рассердил собаку. Вот за это она и порвала твои штаны. Ты сам виноват.
Надо ещё иметь смекалку. Надо думать и соображать. А ты поступил глупо. Ты размахивал палкой и этим рассердил собаку. Вот за это она и порвала твои штаны. Ты сам виноват.
Андрюша сказал своей маме:
— С этих пор я буду всякий раз думать, когда что-нибудь случится.
4
И вот Андрюша в третий раз вышел погулять. Но во дворе уже не было собаки. И мальчишек тоже не было.
Тогда Андрюша вышел на улицу, чтобы посмотреть, где мальчишки.
А мальчишки купались в реке. И Андрюша стал смотреть, как они купаются.
И в этот момент один мальчишка, Санька Палочкин, захлебнулся в воде и стал кричать:
— Ой, спасите, тону!
А мальчишки испугались, что он тонет, и побежали звать взрослых, чтобы те спасли Саньку.
Андрюша крикнул Саньке:
— Погоди тонуть! Я тебя сейчас спасу.
Андрюша хотел броситься в воду, но потом подумал: «Ой, я плохо плаваю, и у меня не хватит силы спасти Саньку. Я поступлю умней: я сяду в лодку и на лодке подплыву к Саньке».
А у самого берега стояла рыбацкая лодка. Андрюша оттолкнул эту лодку от берега и сам вскочил в неё. А в лодке лежали вёсла. Андрюша стал бить этими вёслами по воде. Но у него ничего не вышло: он не умел грести. И течение отнесло рыбацкую лодку на середину реки. И Андрюша от страха стал кричать.
Андрюша оттолкнул эту лодку от берега и сам вскочил в неё. А в лодке лежали вёсла. Андрюша стал бить этими вёслами по воде. Но у него ничего не вышло: он не умел грести. И течение отнесло рыбацкую лодку на середину реки. И Андрюша от страха стал кричать.
А в этот момент по реке плыла другая лодка. И в этой лодке сидели люди. Эти люди спасли Саню Палочкина. И кроме того, эти люди догнали рыбацкую лодку, взяли её на буксир и доставили к берегу.
5
Андрюша пошёл домой и дома, утирая слёзы, сказал своей маме:
— Мама, я сегодня был храбрый — я хотел спасти мальчика. Я сегодня был умный, потому что не бросился в воду, а поплыл в лодке. Я сегодня был сильный, потому что оттолкнул тяжёлую лодку от берега и тяжёлыми вёслами колотил по воде. Но у меня ничего не вышло.
Мама сказала:
— Глупый мальчик! Я забыла тебе сказать самое главное. Недостаточно быть храбрым, умным и сильным. Это слишком мало. Надо ещё иметь знания. Надо уметь грести, уметь плавать, ездить верхом на лошади, летать на самолёте. Надо многое знать. Надо знать математику и алгебру, химию и геометрию. А для того чтобы это всё знать, надо учиться. Кто учится, тот бывает умным. А кто умный, тот должен быть храбрым. А храбрых и умных все любят, потому что они побеждают врагов, тушат пожары, спасают людей и летают на самолётах.
Надо многое знать. Надо знать математику и алгебру, химию и геометрию. А для того чтобы это всё знать, надо учиться. Кто учится, тот бывает умным. А кто умный, тот должен быть храбрым. А храбрых и умных все любят, потому что они побеждают врагов, тушат пожары, спасают людей и летают на самолётах.
Андрюша сказал:
— С этих пор я буду всему учиться.
И мама сказала:
— Вот и хорошо.
1. Каким был Андрюша? Найди ответ в тексте и запиши.
Андрюша был трусливым мальчиком.
2. Каких людей все любят? Найди ответ в тексте и запиши.
Храбрых и умных, потому что они побеждают врагов, тушат пожары, спасают людей и летают на самолётах.
3. Что же самое главное в жизни? Отметь ответ + или запиши свой.
быть смелым + быть умным быть ловким
+ быть храбрым быть честным быть добрым
4∗. Перечитай каждую часть. Какой совет даёт мама сыну в каждой части? Найди и запиши. Перескажи по плану.
Какой совет даёт мама сыну в каждой части? Найди и запиши. Перескажи по плану.
1. Нужно быть храбрым.
2. Недостаточно быть только храбрым, надо быть ещё сильным.
3. Надо ещё иметь смекалку.
4. Надо ещё иметь знания.
5. Допиши пословицу, поставь знаки препинания.
Землю красит солнце, а человека — труд.
Ответы к заданиям. Литературное чтение. Рабочая тетрадь №1. 2 класс. Ефросинина Л. А. 2014 г.
ГДЗ. 2 класс
Письма к сыну. — Сухомлинский В.А.
Актуальное
Актуальные проблемы воспитания ребенка, подростка, юноши. Предназначается для учителей, воспитателей общеобразовательных школ, студентов и преподавателей педагогических вузов, родителей.
- Добрый день, дорогой сын!
Вот ты и улетел из родительского гнезда — живешь в большом городе, учишься в вузе, хочешь чувствовать себя самостоятельным человеком. Знаю по собственному опыту, что, захваченный бурным вихрем новой для тебя жизни, ты мало вспоминаешь о родительском доме, о нас с матерью, и почти не скучаешь. Это придет позже, когда ты узнаешь жизнь. …Первое письмо сыну, улетевшему из родительского гнезда… Хочется, чтобы оно осталось у тебя на всю жизнь, чтобы ты хранил его, перечитывал, думал над ним. Мы с матерью знаем, что каждое молодое поколение немного снисходительно относится к поучениям родителей: вы, мол, не можете видеть и понимать все то, что видим и понимаем мы. Может быть, это и так… Может быть, прочитав это письмо, ты захочешь положить его куда-нибудь подальше, чтобы оно меньше напоминало о бесконечных поучениях отца и матери. Ну что же, положи, но только хорошенько запомни, куда, потому что придет такой день, когда ты вспомнишь эти поучения, скажешь себе: а все-таки прав был отец… и тебе надо будет прочитать это старое полузабытое письмо. Ты найдешь и прочитаешь его. Сохрани же его на всю жизнь. Я тоже сохранил первое письмо от отца. Мне было 15 лет, когда я улетел из родительского гнезда — поступил учиться в Кременчугский педагогический институт.
Это придет позже, когда ты узнаешь жизнь. …Первое письмо сыну, улетевшему из родительского гнезда… Хочется, чтобы оно осталось у тебя на всю жизнь, чтобы ты хранил его, перечитывал, думал над ним. Мы с матерью знаем, что каждое молодое поколение немного снисходительно относится к поучениям родителей: вы, мол, не можете видеть и понимать все то, что видим и понимаем мы. Может быть, это и так… Может быть, прочитав это письмо, ты захочешь положить его куда-нибудь подальше, чтобы оно меньше напоминало о бесконечных поучениях отца и матери. Ну что же, положи, но только хорошенько запомни, куда, потому что придет такой день, когда ты вспомнишь эти поучения, скажешь себе: а все-таки прав был отец… и тебе надо будет прочитать это старое полузабытое письмо. Ты найдешь и прочитаешь его. Сохрани же его на всю жизнь. Я тоже сохранил первое письмо от отца. Мне было 15 лет, когда я улетел из родительского гнезда — поступил учиться в Кременчугский педагогический институт.
 Я не верю в бога, но хлеб называю святым. Пусть и для тебя он на всю жизнь останется святым. Помни, кто ты и откуда вышел. Помни, как трудно добывается этот хлеб. Помни, что дед твой, мой отец Омелько Сухомлин был крепостным и умер за плугом на ниве. Никогда не забывай о народном корне. Не забывай о том, что пока ты учишься — кто-то трудится, добывая тебе хлеб насущный. И выучишься, станешь учителем — тоже не забывай о хлебе. Хлеб — это труд человеческий, это и надежда на будущее, и мерка, которой всегда будет измеряться совесть твоя и твоих детей”. Вот что писал отец в своем первом письме. Ну, была еще приписка о том, что получили рожь и пшеницу на трудодни, что каждую неделю будет привозить мне дед Матвей по караваю. Для чего я пишу тебе об этом, сын? Не забывай, что корень наш — трудовой народ, земля, хлеб святой. И проклят будет тот, кто хоть одним помыслом, одним словом, одним поступком своим выразит пренебрежение к хлебу и труду, к народу, давшему всем нам жизнь… Сотни тысяч слов в нашем языке, но на первое место я бы поставил три слова: хлеб, труд, народ.
Я не верю в бога, но хлеб называю святым. Пусть и для тебя он на всю жизнь останется святым. Помни, кто ты и откуда вышел. Помни, как трудно добывается этот хлеб. Помни, что дед твой, мой отец Омелько Сухомлин был крепостным и умер за плугом на ниве. Никогда не забывай о народном корне. Не забывай о том, что пока ты учишься — кто-то трудится, добывая тебе хлеб насущный. И выучишься, станешь учителем — тоже не забывай о хлебе. Хлеб — это труд человеческий, это и надежда на будущее, и мерка, которой всегда будет измеряться совесть твоя и твоих детей”. Вот что писал отец в своем первом письме. Ну, была еще приписка о том, что получили рожь и пшеницу на трудодни, что каждую неделю будет привозить мне дед Матвей по караваю. Для чего я пишу тебе об этом, сын? Не забывай, что корень наш — трудовой народ, земля, хлеб святой. И проклят будет тот, кто хоть одним помыслом, одним словом, одним поступком своим выразит пренебрежение к хлебу и труду, к народу, давшему всем нам жизнь… Сотни тысяч слов в нашем языке, но на первое место я бы поставил три слова: хлеб, труд, народ.

 И этот корень надо беречь в каждом. Ты пишешь, что скоро вас посылают на работу в колхоз. И очень хорошо. Я этому очень, очень рад. Работай хорошо, не подводи ни себя, ни отца, ни товарищей. Не выбирай чего-нибудь почище да полегче. Выбирай труд непосредственно в поле, на земле. Лопата-тоже инструмент, которым можно показать мастерство. А в летние каникулы будешь работать в тракторной бригаде у себя в колхозе (конечно, если не будут набирать желающих на целинные земли. Если же будут набирать обязательно поезжай туда). “По колосу пшеницы узнают человека, вырастившего ее”,- ты, наверное, хорошо знаешь эту нашу украинскую пословицу. Каждый человек гордится тем, что он делает для людей. Каждому честному человеку хочется оставить частицу себя в своем пшеничном колосе. Я живу на свете уже почти пятьдесят лет, и убедился, что ярче всего это желание выражается в том, кто трудится на земле. Дождемся твоих первых студенческих каникул — я познакомлю тебя с одним стариком из соседнего колхоза, он уже больше тридцати лет выращивает саженцы яблонь.
И этот корень надо беречь в каждом. Ты пишешь, что скоро вас посылают на работу в колхоз. И очень хорошо. Я этому очень, очень рад. Работай хорошо, не подводи ни себя, ни отца, ни товарищей. Не выбирай чего-нибудь почище да полегче. Выбирай труд непосредственно в поле, на земле. Лопата-тоже инструмент, которым можно показать мастерство. А в летние каникулы будешь работать в тракторной бригаде у себя в колхозе (конечно, если не будут набирать желающих на целинные земли. Если же будут набирать обязательно поезжай туда). “По колосу пшеницы узнают человека, вырастившего ее”,- ты, наверное, хорошо знаешь эту нашу украинскую пословицу. Каждый человек гордится тем, что он делает для людей. Каждому честному человеку хочется оставить частицу себя в своем пшеничном колосе. Я живу на свете уже почти пятьдесят лет, и убедился, что ярче всего это желание выражается в том, кто трудится на земле. Дождемся твоих первых студенческих каникул — я познакомлю тебя с одним стариком из соседнего колхоза, он уже больше тридцати лет выращивает саженцы яблонь.
- Добрый день, дорогой сын!
Письмо твое из колхоза получил. Оно очень взволновало меня. Не спал всю ночь. Думал о том, что ты пишешь, и о тебе. С одной стороны, хорошо, что тебя тревожат факты бесхозяйственности: в колхозе прекрасный сад, но уже тонн десять яблок скормили свиньям; гектара три помидоров остались неубранными, а председатель колхоза приказал трактористам перепахать участок, чтобы и следов не осталось… Но, с другой стороны, меня удивляет, что в твоем письме — только недоумение и больше ничего, растерянность перед этими возмутительными фактами. Что же это получается? Ты пишешь: “Когда я увидел утром этот участок вспаханным, у меня чуть сердце не вырвалось из груди…” А потом что? Все-таки, что же произошло с твоим сердцем? Успокоилось оно, по-видимому, и бьется ровненько? И сердца твоих товарищей — тоже ни у кого не вырвались из груди?
Плохо, очень плохо… Ты помнишь, наверное, мои рассказы о Талейране, этом сверхцинике и архипрожженном политике.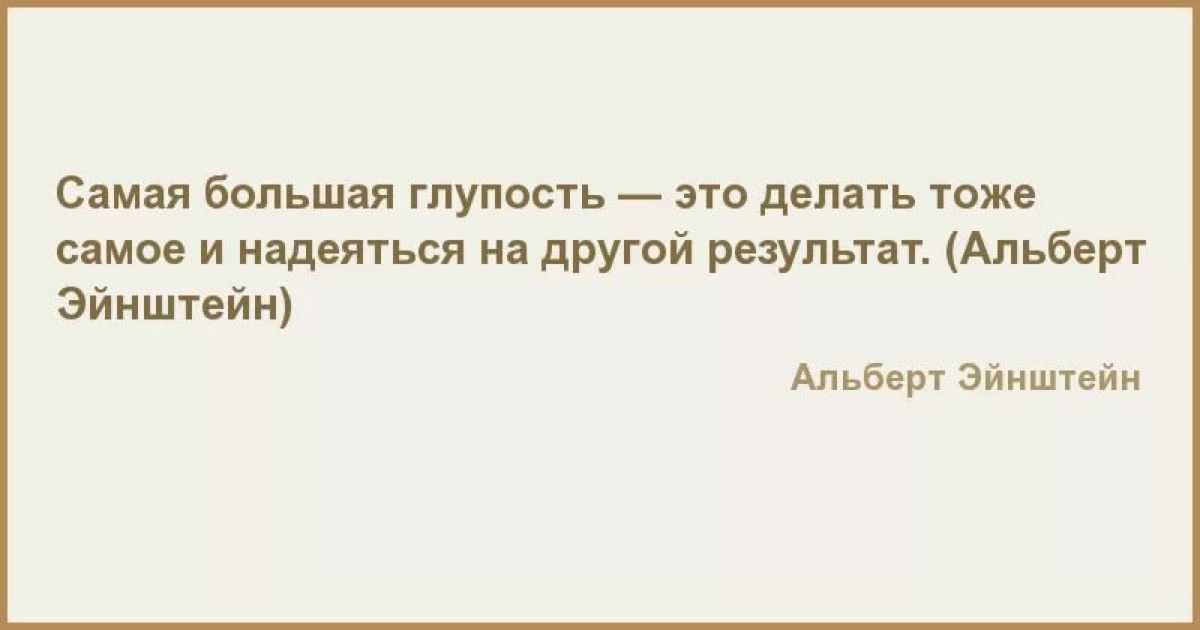 Он поучал молодежь бояться первого движения души, потому что оно, обыкновенно, самое благородное. А мы, коммунисты, учим другому: не давай погаснуть в себе первым движениям души, потому что они самые благородные. Делай так, как подсказывает первое движение души. Подавлять в себе голос совести — очень опасное дело. Если ты привыкнешь не обращать внимания на что-нибудь одно, ты вскоре не будешь обращать внимания ни на что. Не иди на компромисс со своей совестью, только так можно выковать характер. Запиши в свою записную книжку вот эти слова из “Мертвых душ”: “Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!”. Самое страшное для человека — это превратиться в спящего с открытыми глазами: смотреть и не видеть, видеть и не думать о том, что видишь, добру и злу внимать равнодушно; проходить спокойно мимо зла и неправды.
Он поучал молодежь бояться первого движения души, потому что оно, обыкновенно, самое благородное. А мы, коммунисты, учим другому: не давай погаснуть в себе первым движениям души, потому что они самые благородные. Делай так, как подсказывает первое движение души. Подавлять в себе голос совести — очень опасное дело. Если ты привыкнешь не обращать внимания на что-нибудь одно, ты вскоре не будешь обращать внимания ни на что. Не иди на компромисс со своей совестью, только так можно выковать характер. Запиши в свою записную книжку вот эти слова из “Мертвых душ”: “Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!”. Самое страшное для человека — это превратиться в спящего с открытыми глазами: смотреть и не видеть, видеть и не думать о том, что видишь, добру и злу внимать равнодушно; проходить спокойно мимо зла и неправды.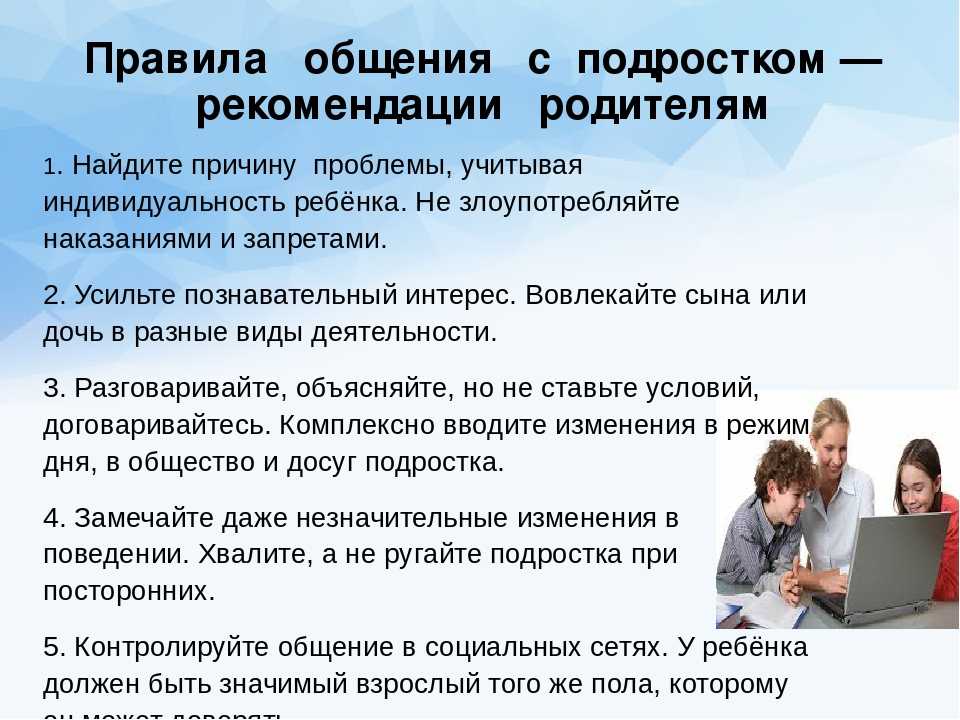
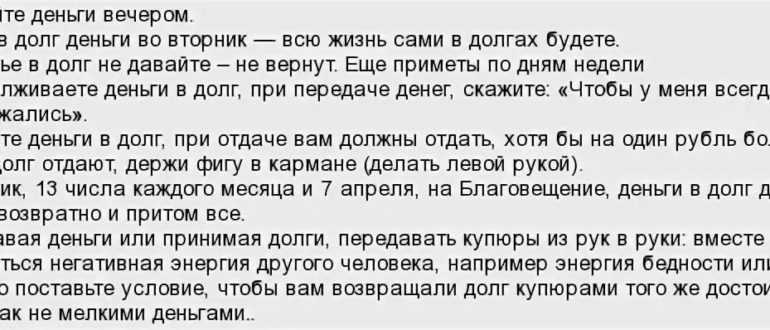
- Добрый день, дорогой сын!
Я очень ряд, что ты пишешь обо всем откровенно, делишься своими думами, сомнениями и тревогами. И еще одно мне доставляет радость: то, что и в дни этого нелегкого, напряженного труда, когда приходится ложиться в двенадцать и подниматься в пять, тебя волнуют именно эти мысли. Ты пишешь, что если бы ты поднял голос против зла, которое происходит на твоих глазах, если бы стал бороться за правду, на тебя смотрели бы с удивлением — как на белую ворону. В этом письме я прочитал между строчками чувство уныния, какой-то растерянности.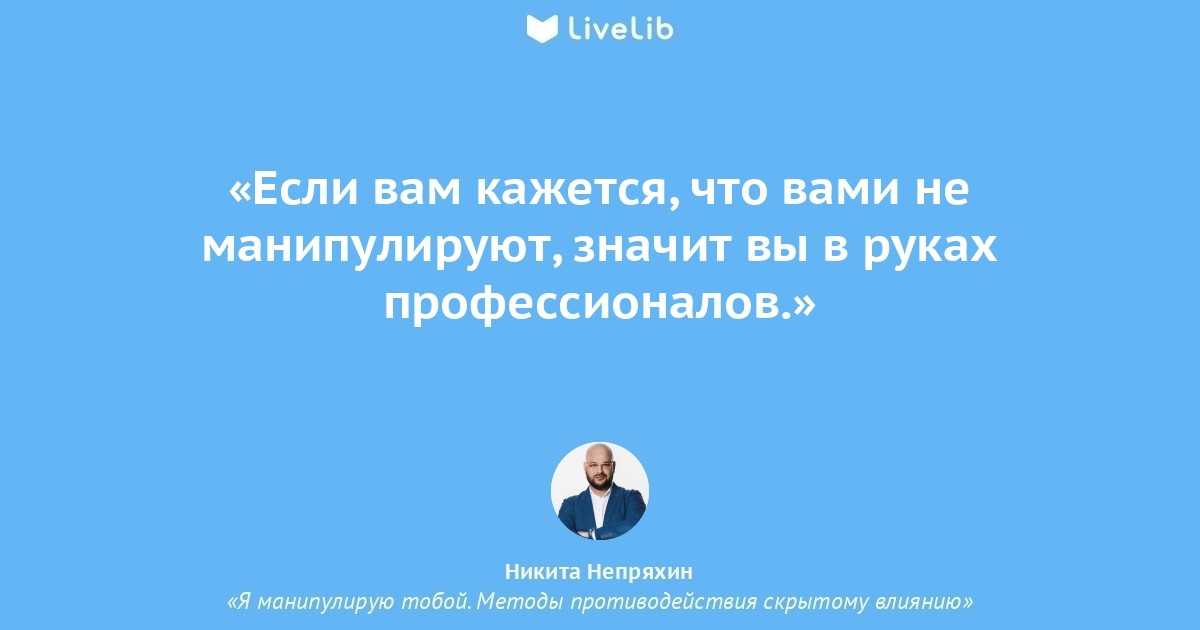 “Я чувствую, что идейность расценивается здесь как стремление накопить определенный нравственный капитал,- пишешь ты. — Я уже не раз слышал, как слово идейный произносят с иронией: какой ты очень идейный… Что же это такое? Неужели ценности, о которых я думал раньше с благоговением, при мысли о которых сердце мое учащенно билось, теряют смысл? Как же понимать жизнь во имя идеи?” Хорошо, мой сын, очень хорошо, что эти вопросы волнуют тебя. Я очень рад за тебя и за себя. Значит, тебе не безразлично, что говорят и что думают люди, окружающие тебя. Идейность, идея — великие, святые слова. И тот, кто вольно или невольно пытается опошлить красоту человеческой идейности, загрязнить чистое и величественное паутиной мещанского самодовольства и равнодушия, обывательского зубоскальства, тот поднимает руку, замахивается на Человека. Идейность — это подлинная человечность. Ты помнишь слова Гете: “Всякий, кто удаляется от идей, в конце концов остается при одних ощущениях”? Я помню, как в годы отрочества тебя поразили, изумили эти слова, и ты спросил у меня: “Значит, другими словами, превращается в животное?” Да, мой сын, тот, в чьем сердце нет идеи, начинает приближаться к животному существованию.
“Я чувствую, что идейность расценивается здесь как стремление накопить определенный нравственный капитал,- пишешь ты. — Я уже не раз слышал, как слово идейный произносят с иронией: какой ты очень идейный… Что же это такое? Неужели ценности, о которых я думал раньше с благоговением, при мысли о которых сердце мое учащенно билось, теряют смысл? Как же понимать жизнь во имя идеи?” Хорошо, мой сын, очень хорошо, что эти вопросы волнуют тебя. Я очень рад за тебя и за себя. Значит, тебе не безразлично, что говорят и что думают люди, окружающие тебя. Идейность, идея — великие, святые слова. И тот, кто вольно или невольно пытается опошлить красоту человеческой идейности, загрязнить чистое и величественное паутиной мещанского самодовольства и равнодушия, обывательского зубоскальства, тот поднимает руку, замахивается на Человека. Идейность — это подлинная человечность. Ты помнишь слова Гете: “Всякий, кто удаляется от идей, в конце концов остается при одних ощущениях”? Я помню, как в годы отрочества тебя поразили, изумили эти слова, и ты спросил у меня: “Значит, другими словами, превращается в животное?” Да, мой сын, тот, в чьем сердце нет идеи, начинает приближаться к животному существованию. Помни, еще раз говорю тебе, помни, что во имя идеи люди шли в огонь, на эшафот, под пули. Джордано Бруно мог спасти свою жизнь, сказав всего несколько слов: я отказываюсь от своих взглядов. Но он не сказал этих слов, потому что благородная идея одухотворяла его. Под крики и смех многотысячной толпы невежественных обывателей, в шутовском колпаке и халате, на котором были нарисованы черти, он шел к костру инквизиции — гордый, непоколебимый в своих убеждениях, одухотворенный идеей, и в туманной дали веков перед его взором, наверное, поднимались в звездное небо ракеты, направляясь в далекие миры. Александру Ульянову достаточно было написать верноподданическое письмо “на высочайшее имя”, и царь даровал бы ему жизнь, но он не сделал, не мог сделать этого. Софье Перовской достаточно было сказать, что она не принимала участия в подготовке убийства царя, и ее освободили бы, прямых доказательств ее вины не было,- но она не могла сделать этого, потому что дороже собственной жизни была для нее идея свободы, идея уничтожения тирана.
Помни, еще раз говорю тебе, помни, что во имя идеи люди шли в огонь, на эшафот, под пули. Джордано Бруно мог спасти свою жизнь, сказав всего несколько слов: я отказываюсь от своих взглядов. Но он не сказал этих слов, потому что благородная идея одухотворяла его. Под крики и смех многотысячной толпы невежественных обывателей, в шутовском колпаке и халате, на котором были нарисованы черти, он шел к костру инквизиции — гордый, непоколебимый в своих убеждениях, одухотворенный идеей, и в туманной дали веков перед его взором, наверное, поднимались в звездное небо ракеты, направляясь в далекие миры. Александру Ульянову достаточно было написать верноподданическое письмо “на высочайшее имя”, и царь даровал бы ему жизнь, но он не сделал, не мог сделать этого. Софье Перовской достаточно было сказать, что она не принимала участия в подготовке убийства царя, и ее освободили бы, прямых доказательств ее вины не было,- но она не могла сделать этого, потому что дороже собственной жизни была для нее идея свободы, идея уничтожения тирана. Идея делает человека мужественным и бесстрашным. Если бы каждый молодой человек, каждая девушка в нашей стране жили благородной, возвышенной идеей, если бы идея была у каждого стражем совести,- наше общество стало бы миром идеальной нравственной, духовной красоты. Люди сияли бы. как мечтал Горький, как звезда друг другу[4]. Но это время не приблизится само. За него надо бороться. Самое трудное, что предстоит нам сделать‑и мне, и тебе, и твоим детям.-это одухотворить человека возвышенной коммунистической идеей. Она, эта идея, прекраснее всего на свете, мой сын. Я прочитал и посылаю тебе маленькую книжечку — “Сердце, врученное бурям”,- речи, произнесенные на суде коммунистом Хосровом Рузбехом, руководителем компартии Ирана. Его жизнь очень поучительна вообще, а для молодежи, стремящейся познать смысл и красоту коммунистической идеи, эта жизнь является, образно говоря, букварем идейности. Хосров Рузбех талантливый ученый-математик, он написал много научных трудов, перед ним открывалось блестящее будущее.
Идея делает человека мужественным и бесстрашным. Если бы каждый молодой человек, каждая девушка в нашей стране жили благородной, возвышенной идеей, если бы идея была у каждого стражем совести,- наше общество стало бы миром идеальной нравственной, духовной красоты. Люди сияли бы. как мечтал Горький, как звезда друг другу[4]. Но это время не приблизится само. За него надо бороться. Самое трудное, что предстоит нам сделать‑и мне, и тебе, и твоим детям.-это одухотворить человека возвышенной коммунистической идеей. Она, эта идея, прекраснее всего на свете, мой сын. Я прочитал и посылаю тебе маленькую книжечку — “Сердце, врученное бурям”,- речи, произнесенные на суде коммунистом Хосровом Рузбехом, руководителем компартии Ирана. Его жизнь очень поучительна вообще, а для молодежи, стремящейся познать смысл и красоту коммунистической идеи, эта жизнь является, образно говоря, букварем идейности. Хосров Рузбех талантливый ученый-математик, он написал много научных трудов, перед ним открывалось блестящее будущее. Но его воодушевила борьба за освобождение Родины от тирании, угнетения. Он стал коммунистом. Несколько лет был в подполье. Предатель выдал его, Хосрова Рузбеха арестовали и судили. Ему угрожала смертная казнь. Суд даровал бы ему жизнь, если бы Хосров Рузбех попросил пощады. Но коммунист знал: в жестокой обстановке террора, царящей в стране, его спасение от смерти товарищи воспримут как предательство и заклеймят его позором. Вот его последнее слово: “Смерть всегда неприятна, особенно для людей, сердца которых полны надеждой на будущее, будущее светлое и прекрасное. Но оставаться в живых всеми правдами и неправдами недостойно для настоящих людей. На жизненном пути никогда не следует терять свою основную цель. Если жизнь покупается ценой позора и посрамления, потерей чести, отказа от своих идей, своих заветных мечтаний и политических и социальных взглядов — смерть во сто крат честнее и почетнее. Я сам выбрал себе путь и иду им до конца… Я не считаю себя преступником, подлежащим наказанию и заслуживающим смертной казни, но, принимая во внимание, что моя честь в опасности, я официально требую от уважаемых судей вынести мне смертный приговор.
Но его воодушевила борьба за освобождение Родины от тирании, угнетения. Он стал коммунистом. Несколько лет был в подполье. Предатель выдал его, Хосрова Рузбеха арестовали и судили. Ему угрожала смертная казнь. Суд даровал бы ему жизнь, если бы Хосров Рузбех попросил пощады. Но коммунист знал: в жестокой обстановке террора, царящей в стране, его спасение от смерти товарищи воспримут как предательство и заклеймят его позором. Вот его последнее слово: “Смерть всегда неприятна, особенно для людей, сердца которых полны надеждой на будущее, будущее светлое и прекрасное. Но оставаться в живых всеми правдами и неправдами недостойно для настоящих людей. На жизненном пути никогда не следует терять свою основную цель. Если жизнь покупается ценой позора и посрамления, потерей чести, отказа от своих идей, своих заветных мечтаний и политических и социальных взглядов — смерть во сто крат честнее и почетнее. Я сам выбрал себе путь и иду им до конца… Я не считаю себя преступником, подлежащим наказанию и заслуживающим смертной казни, но, принимая во внимание, что моя честь в опасности, я официально требую от уважаемых судей вынести мне смертный приговор. Я требую это ради того, чтобы разделить славу моих погибших друзей и чтобы уничтожить обвинение, которое угрожает моей чести. Ни я, ни мои товарищи, которые были осуждены за политическую деятельность, не являемся преступниками, наоборот, мы — слуги нашей дорогой родины, и справедливый и честный иранский народ рассматривает эти приговоры как деспотические и оправдает своих самоотверженных сынов. Осуждайте Хосрова Рузбеха, но вам не осудить человечности, честности, патриотизма, гуманности и самоотверженности”. Запомни эти слова, мой сын. Пусть они будут огоньком, озаряющим твою жизнь. Мне понятны душевные движения тех, кто в слова идея, идейность вкладывает иронический смысл, а идейное мужество считает чуть ли не карьеризмом. Эти люди жалки своей убогостью, пустотой духовной жизни. Они не знают полноты высокоидейной духовной жизни, а значит не знают подлинного счастья вообще. Они думают, что быть одухотворенным идеей-это значит быть рабом идеи.
Я требую это ради того, чтобы разделить славу моих погибших друзей и чтобы уничтожить обвинение, которое угрожает моей чести. Ни я, ни мои товарищи, которые были осуждены за политическую деятельность, не являемся преступниками, наоборот, мы — слуги нашей дорогой родины, и справедливый и честный иранский народ рассматривает эти приговоры как деспотические и оправдает своих самоотверженных сынов. Осуждайте Хосрова Рузбеха, но вам не осудить человечности, честности, патриотизма, гуманности и самоотверженности”. Запомни эти слова, мой сын. Пусть они будут огоньком, озаряющим твою жизнь. Мне понятны душевные движения тех, кто в слова идея, идейность вкладывает иронический смысл, а идейное мужество считает чуть ли не карьеризмом. Эти люди жалки своей убогостью, пустотой духовной жизни. Они не знают полноты высокоидейной духовной жизни, а значит не знают подлинного счастья вообще. Они думают, что быть одухотворенным идеей-это значит быть рабом идеи. По их мнению (мнение это не сегодня возникло, оно давно перекочевывает из одного исторического периода в другой), человек растворяется в идее, перестает существовать как личность, превращается в ходячую идею. Какое жалкое недомыслие! Только благодаря идее человек обретает свою личность, проявляет себя в творчестве, становится подлинным борцом за что-то. Человек не растворяется в идее, а становится могучей силой благодаря одухотворенности идеей. Есть у нас в области хороший учитель, мой друг Иван Гурьевич Ткаченко, директор Богдановской средней школы (может быть, ты помнишь его, он несколько раз приезжал к нам). Во время Великой Отечественной войны он сражался против фашистов в партизанском отряде — в Черном лесу, недалеко от Знаменки. Недавно он рассказал мне потрясающую историю, о которой надо знать тебе в связи с сомнениями об идее и идеале. Это было в трудные месяцы войны-поздней осенью 1941 года.
По их мнению (мнение это не сегодня возникло, оно давно перекочевывает из одного исторического периода в другой), человек растворяется в идее, перестает существовать как личность, превращается в ходячую идею. Какое жалкое недомыслие! Только благодаря идее человек обретает свою личность, проявляет себя в творчестве, становится подлинным борцом за что-то. Человек не растворяется в идее, а становится могучей силой благодаря одухотворенности идеей. Есть у нас в области хороший учитель, мой друг Иван Гурьевич Ткаченко, директор Богдановской средней школы (может быть, ты помнишь его, он несколько раз приезжал к нам). Во время Великой Отечественной войны он сражался против фашистов в партизанском отряде — в Черном лесу, недалеко от Знаменки. Недавно он рассказал мне потрясающую историю, о которой надо знать тебе в связи с сомнениями об идее и идеале. Это было в трудные месяцы войны-поздней осенью 1941 года. Фашистская пропаганда кричала о том, что с Красной Армией покончено, скоро падет Москва. Но фашисты уже были напуганы первыми известиями о партизанах. Не давали покоя немцам партизаны и в нашей области. В одном из сел, расположенных недалеко от Черного леса, народные мстители сожгли штабную машину, радиостанцию и убили трех гитлеровцев. Фашисты решили пока не предпринимать карательных мер против жителей этого села. Они решили пойти по другому, более тонкому пути “психического ошеломления”, как говорили их пропагандисты. В центре села они соорудили большую виселицу, прибили к ней табличку с надписью на немецком и украинском языках: “Если в селе появится хоть один партизан, если прольется хоть капля крови немецкого солдата от руки партизана, если будет произнесено хоть одно слово в оправдание или поддержку бандитских действий партизан,-на этой виселице будут повешены десять первых попавшихся жителей”. Согнали к виселице все село, чтобы “объяснить” этот приказ, приехал фашистский майор‑и говорит крестьянам: “Вашей Красной Армии нет, Советского Союза нет, все советские земли отныне принадлежат немецкому рейху”.
Фашистская пропаганда кричала о том, что с Красной Армией покончено, скоро падет Москва. Но фашисты уже были напуганы первыми известиями о партизанах. Не давали покоя немцам партизаны и в нашей области. В одном из сел, расположенных недалеко от Черного леса, народные мстители сожгли штабную машину, радиостанцию и убили трех гитлеровцев. Фашисты решили пока не предпринимать карательных мер против жителей этого села. Они решили пойти по другому, более тонкому пути “психического ошеломления”, как говорили их пропагандисты. В центре села они соорудили большую виселицу, прибили к ней табличку с надписью на немецком и украинском языках: “Если в селе появится хоть один партизан, если прольется хоть капля крови немецкого солдата от руки партизана, если будет произнесено хоть одно слово в оправдание или поддержку бандитских действий партизан,-на этой виселице будут повешены десять первых попавшихся жителей”. Согнали к виселице все село, чтобы “объяснить” этот приказ, приехал фашистский майор‑и говорит крестьянам: “Вашей Красной Армии нет, Советского Союза нет, все советские земли отныне принадлежат немецкому рейху”.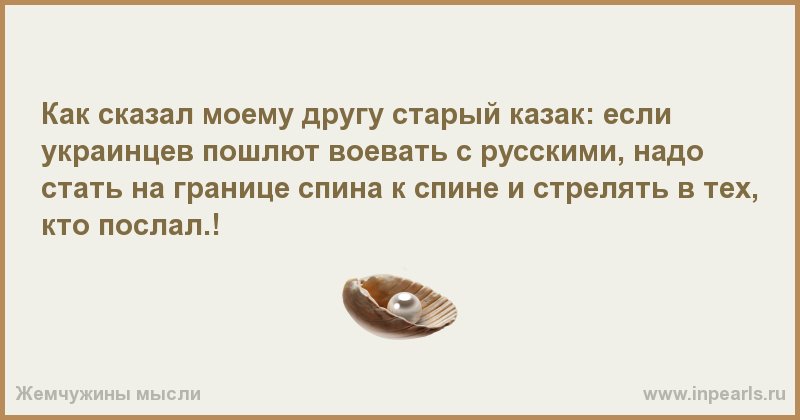 Приуныли крестьяне. И вот из толпы вышел к майору парень лет двадцати. “Не верьте фашистам, — крикнул он. — Жива Красная Армия, жива советская власть, стоит и вечно стоять будет Москва. Я партизанский разведчик”. Фашисты до того были изумлены дерзостью героя, что в первые мгновенья растерялись. Парень успел сказать свои гневные слова, успел вынуть из рукава фуфайки пистолет и в упор застрелить майора. Спохватились фашисты только тогда, когда майор лежал мертвый. Схватили парня в фуфайке, связали. Приговорили к смертной казни. Перед казнью парень сидел в тюремной камере с одним партизаном, которому удалось бежать, благодаря ему и стало кое-что известно о герое. “Я не партизан, — сказал парень, — я попавший в плен к гитлеровцам советский воин. В плен меня взяли контуженным, потом удалось бежать. В селе, где гитлеровцы собрали крестьян на сходку, я оказался случайно. Я видел, как приуныли крестьяне, когда майор сказал о гибели нашей армии, о падении Москвы.
Приуныли крестьяне. И вот из толпы вышел к майору парень лет двадцати. “Не верьте фашистам, — крикнул он. — Жива Красная Армия, жива советская власть, стоит и вечно стоять будет Москва. Я партизанский разведчик”. Фашисты до того были изумлены дерзостью героя, что в первые мгновенья растерялись. Парень успел сказать свои гневные слова, успел вынуть из рукава фуфайки пистолет и в упор застрелить майора. Спохватились фашисты только тогда, когда майор лежал мертвый. Схватили парня в фуфайке, связали. Приговорили к смертной казни. Перед казнью парень сидел в тюремной камере с одним партизаном, которому удалось бежать, благодаря ему и стало кое-что известно о герое. “Я не партизан, — сказал парень, — я попавший в плен к гитлеровцам советский воин. В плен меня взяли контуженным, потом удалось бежать. В селе, где гитлеровцы собрали крестьян на сходку, я оказался случайно. Я видел, как приуныли крестьяне, когда майор сказал о гибели нашей армии, о падении Москвы.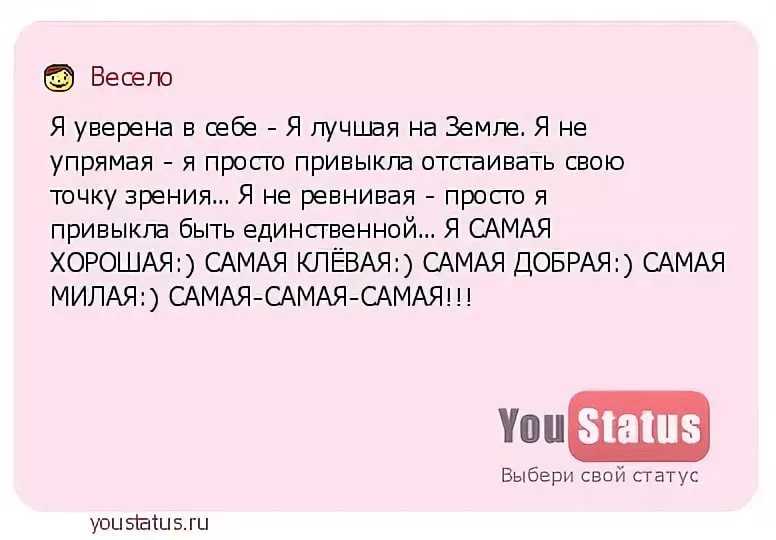 Душа моя не выдержала. Я знал, что иду на смерть, но не мог поступить иначе. Мои слова зажгли в сердцах у людей огонек веры в победу нашей Родины. Меня будут вешать там же, в селе, на той же виселице. Соберут опять всех крестьян. Смерть будет для меня самым трудным испытанием. Все-таки страшно умирать. Страшно представить, что через минуту уйдешь в небытие. Хочется выдержать это испытание перед людьми. Меня поддерживает вера в победу. Этим я живу”. Он выдержал испытание с честью. Перед тем как палач накинул ему петлю на шею, он воскликнул: “Не склоняйте головы перед палачами, люди. Свободу не повесить на виселице. Умираю за Родину”. Тот, кто дорожит идеей,дорожит собственным достоинством. Коммунистическая идея, говоря словами Маркса, превращается в узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца. Я верю, что ты станешь настоящим человеком, что великая правда наших идей и твое сердце сольются воедино. Помни, что не все в жизни будет гладким и красивым.
Душа моя не выдержала. Я знал, что иду на смерть, но не мог поступить иначе. Мои слова зажгли в сердцах у людей огонек веры в победу нашей Родины. Меня будут вешать там же, в селе, на той же виселице. Соберут опять всех крестьян. Смерть будет для меня самым трудным испытанием. Все-таки страшно умирать. Страшно представить, что через минуту уйдешь в небытие. Хочется выдержать это испытание перед людьми. Меня поддерживает вера в победу. Этим я живу”. Он выдержал испытание с честью. Перед тем как палач накинул ему петлю на шею, он воскликнул: “Не склоняйте головы перед палачами, люди. Свободу не повесить на виселице. Умираю за Родину”. Тот, кто дорожит идеей,дорожит собственным достоинством. Коммунистическая идея, говоря словами Маркса, превращается в узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца. Я верю, что ты станешь настоящим человеком, что великая правда наших идей и твое сердце сольются воедино. Помни, что не все в жизни будет гладким и красивым.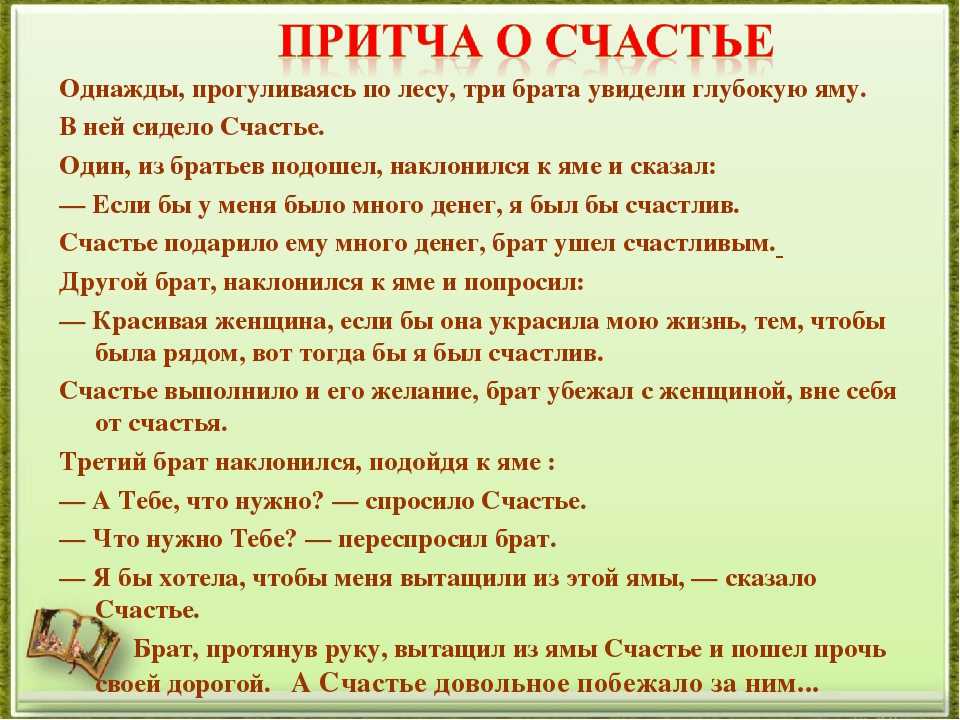 Встретятся тебе и уродливые, безобразные вещи. Надо уметь противопоставить им великую правду коммунизма. Идейность без человеческой страсти превращается в ханжество. Есть у нас в обществе много “борцов за правду”, “искателей истины”, которые не прочь “разоблачить” зло, а борется с ним пусть милиция. Эти демагоги, пустозвоны приносят много вреда. Задача заключается не в том, чтобы увидеть зло и во всеуслышание сказать о нем, а в том, чтобы преодолеть зло. Иногда надо не говорить, а действовать без разговоров. Илья Ильф и Евгений Петров очень хорошо сказали: надо не бороться за чистоту, а подметать. Подметать же у нас еще есть что. Верю в то, что мусор, который время от времени может встречаться тебе на жизненном пути, не вызовет у тебя ни уныния, ни растерянности, ни неверия в добро. Добро восторжествует, но истоки торжества добра — в человеке, в нас самих. Доброго тебе здоровья, бодрого духа и радости. Обнимаю и целую тебя.
Встретятся тебе и уродливые, безобразные вещи. Надо уметь противопоставить им великую правду коммунизма. Идейность без человеческой страсти превращается в ханжество. Есть у нас в обществе много “борцов за правду”, “искателей истины”, которые не прочь “разоблачить” зло, а борется с ним пусть милиция. Эти демагоги, пустозвоны приносят много вреда. Задача заключается не в том, чтобы увидеть зло и во всеуслышание сказать о нем, а в том, чтобы преодолеть зло. Иногда надо не говорить, а действовать без разговоров. Илья Ильф и Евгений Петров очень хорошо сказали: надо не бороться за чистоту, а подметать. Подметать же у нас еще есть что. Верю в то, что мусор, который время от времени может встречаться тебе на жизненном пути, не вызовет у тебя ни уныния, ни растерянности, ни неверия в добро. Добро восторжествует, но истоки торжества добра — в человеке, в нас самих. Доброго тебе здоровья, бодрого духа и радости. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Как я рад, что тебя волнует все это: идеал, цель жизни, истина, красота. Давно я не помню у тебя такой “вспышки” интереса к этим проблемам. Рад, что мое письмо пробудило у тебя целый поток мыслей. Наверное, причиной такого взлета является то, что перед тобой сейчас новые люди, ты каждый день познаешь самое чудесное, самое удивительное, что есть в мире — Человека. А познание человека-это повторное познание самого себя. У себя я замечаю такой духовный подъем в те счастливые дни, когда прихожу в класс, где все ученики — совершенно новые для меня люди. Познавая их, я как бы “перетряхиваю” сам себя, “проверяю” свои взгляды, убеждения, стремлюсь увидеть в себе плохое и хорошее.
Ты пишешь: “Вряд ли сейчас, в наше время, можно встретить человека, о котором можно было бы сказать: он идеален”. Между строчек я прочитал здесь и вопрос, проникнутый недоумением: “Есть ли вообще в наши дни идеальные люди, возможен ли вообще человек без недостатков?” и безапелляционное юношеское утверждение: “Время идеальных людей прошло… Время героического миновало…” Я помню наш неоконченный спор накануне твоего отъезда на вступительные экзамены (помнишь, мы сидели в саду, под грушей, и в самом напряженном месте нашего спора мама сказала: “Пора, через час поезд”). Ты горячо отстаивал свое мнение: почва для рождения идеальных людей была в то время, когда все общественные силы распределялись по противоположным полюсам: с одной стороны — добро, с другой — зло. Было видно, за что и против чего надо бороться, где зло и где добро. А теперь-не то: борьба за идеал сливается с повседневным трудом. Ты приводил пример: доярка надоила на тысячу литров больше, чем по плану, и о ней уже говорят, как о героине. Разве может так легко достигаться героическое? Не слишком ли часто награждается обычный труд — труд как обязанность, как условие существования — великим словом подвиг? Твое письмо развивает эти твои мысли. Это очень сложные, тонкие вопросы. Особенно вопрос об идеальном. Прежде всего надо помнить, что идеальный — вовсе не значит без сучка, без задоринки. Человек всегда из плоти и крови, а не из железобетона. Я думаю, ты не откажешь Павке Корчагину в праве называться идеальным, а помнишь, что он сам говорил о себе? Вот его слова: “Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию” [7].
Ты горячо отстаивал свое мнение: почва для рождения идеальных людей была в то время, когда все общественные силы распределялись по противоположным полюсам: с одной стороны — добро, с другой — зло. Было видно, за что и против чего надо бороться, где зло и где добро. А теперь-не то: борьба за идеал сливается с повседневным трудом. Ты приводил пример: доярка надоила на тысячу литров больше, чем по плану, и о ней уже говорят, как о героине. Разве может так легко достигаться героическое? Не слишком ли часто награждается обычный труд — труд как обязанность, как условие существования — великим словом подвиг? Твое письмо развивает эти твои мысли. Это очень сложные, тонкие вопросы. Особенно вопрос об идеальном. Прежде всего надо помнить, что идеальный — вовсе не значит без сучка, без задоринки. Человек всегда из плоти и крови, а не из железобетона. Я думаю, ты не откажешь Павке Корчагину в праве называться идеальным, а помнишь, что он сам говорил о себе? Вот его слова: “Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию” [7]. Сам герой видел в себе недостатки, но не недостатки определяют главное в этом замечательном человеке. Самое главное в том, что “на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови”. Вот оно — идеальное. Оно измеряется человеческой страстью, накалом его борьбы за торжество правды, за победу революции. Мне навсегда запомнились слова Эрнеста Хемингуэя: “Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения… Человека можно уничтожить, но его нельзя победить” [8]. Но задолго до того, как сказал эти слова Эрнест Хемингуэй, мир услышал их из уст Павла Корчагина. И не только услышал слова — увидел подвиг. Представь себе, что на нашу жизнь, на наш будничный труд посмотрели бы люди, давно ушедшие из жизни, для которых справедливый социальный строй был далеким будущим, прекрасной, пленительной мечтой… Такие, как Александр Ульянов, Степан Халтурин, Софья Перовская… Представь себе, что они увидели бы нашу жизнь, присмотрелись к ней, поняли труд миллионов строителей нового мира,-что сказало бы им их сердце, что бы они почувствовали и подумали? Их сердца затрепетали бы от изумления.
Сам герой видел в себе недостатки, но не недостатки определяют главное в этом замечательном человеке. Самое главное в том, что “на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови”. Вот оно — идеальное. Оно измеряется человеческой страстью, накалом его борьбы за торжество правды, за победу революции. Мне навсегда запомнились слова Эрнеста Хемингуэя: “Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения… Человека можно уничтожить, но его нельзя победить” [8]. Но задолго до того, как сказал эти слова Эрнест Хемингуэй, мир услышал их из уст Павла Корчагина. И не только услышал слова — увидел подвиг. Представь себе, что на нашу жизнь, на наш будничный труд посмотрели бы люди, давно ушедшие из жизни, для которых справедливый социальный строй был далеким будущим, прекрасной, пленительной мечтой… Такие, как Александр Ульянов, Степан Халтурин, Софья Перовская… Представь себе, что они увидели бы нашу жизнь, присмотрелись к ней, поняли труд миллионов строителей нового мира,-что сказало бы им их сердце, что бы они почувствовали и подумали? Их сердца затрепетали бы от изумления.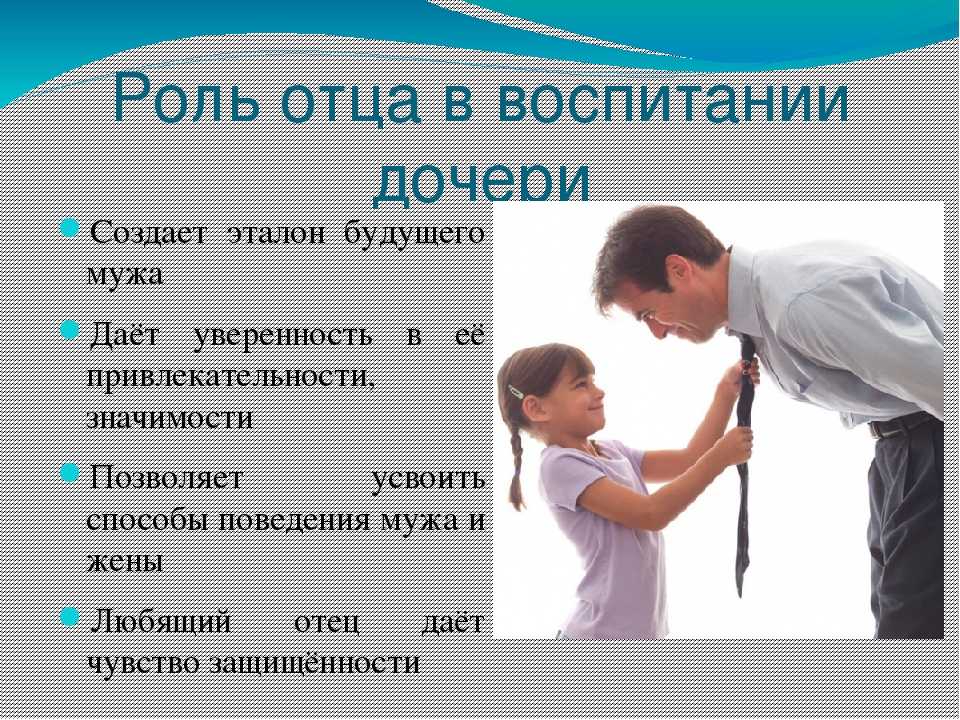 Само время наше, всю жизнь нашу они увидели бы как идеальное. Любой из этих героев сказал бы: вот жизнь, за которую я пошел на смерть.
Само время наше, всю жизнь нашу они увидели бы как идеальное. Любой из этих героев сказал бы: вот жизнь, за которую я пошел на смерть.
Беда в том, что мы не чувствуем этого, забываем о том, в какое время мы живем. Героическое‑в самих нас, в миллионах “простых” тружеников, которые и не помышляют быть героями и очень удивились бы, если бы им сказали, что они — герои. Изменяются сами понятия: мне кажется, что в словах простой человек, рядовой труженик есть какой-то оттенок пренебрежительного отношения к человеку. Нет простого человека. Наш современник — труженик, работающий в поле, на ферме, у станка-ой, далеко не простой он. Багряное знамя революции… Его гордо несет над миром наш народ. Революция продолжается, революция приближается ныне к вершине преобразования мира-вот в чем смысл нашего времени, дорогой мой сын, и ты должен понять и почувствовать это. То, о чем мечтали лучшие люди прошлого, за что пошли на муки и на смерть, мы осуществляем ныне своими руками. Мы строим коммунизм — понять и почувствовать это можно лишь тогда, когда каждый из нас увидит наши будни глазами тех, для кого коммунистический идеал, идеал добра и правды был пленительной мечтой о счастье — мечтой осуществимой, но далекой… И вот та доярка, о которой ты говорил — это действительно идеальный человек, герой. Она не совершает никакого подвига, но вся ее жизнь — подвиг. Ее капля крови — на багряном знамени революции. Почему она героиня, почему ее жизнь подвиг? Да потому, что она своим трудом возвышает человека. Задумайся, сын, над целью коммунистического строительства: во имя чего мы трудимся, намечаем и выполняем наши пятилетние и семилетние планы? Все во имя счастья человека. Коммунизм- это не что-то божественно-непостижимое, возвышающееся над безликой массой людей. Коммунизм — в самом человеке, в его счастье. Строить коммунизм — это значит создавать счастье каждому человеку, каждой семье, а это невозможно, просто немыслимо без материальных и духовных благ.
Мы строим коммунизм — понять и почувствовать это можно лишь тогда, когда каждый из нас увидит наши будни глазами тех, для кого коммунистический идеал, идеал добра и правды был пленительной мечтой о счастье — мечтой осуществимой, но далекой… И вот та доярка, о которой ты говорил — это действительно идеальный человек, герой. Она не совершает никакого подвига, но вся ее жизнь — подвиг. Ее капля крови — на багряном знамени революции. Почему она героиня, почему ее жизнь подвиг? Да потому, что она своим трудом возвышает человека. Задумайся, сын, над целью коммунистического строительства: во имя чего мы трудимся, намечаем и выполняем наши пятилетние и семилетние планы? Все во имя счастья человека. Коммунизм- это не что-то божественно-непостижимое, возвышающееся над безликой массой людей. Коммунизм — в самом человеке, в его счастье. Строить коммунизм — это значит создавать счастье каждому человеку, каждой семье, а это невозможно, просто немыслимо без материальных и духовных благ. Доярка, создающая материальные ценности, заботится не только о материальном благополучии. Если бы не труд этой “простой”, “рядовой”, доярки, не было бы ни прекрасных песен Пахмутовой, ни симфоний Шостаковича, ни дерзкой мечты академика Амбарцумяна о рождении сверхновых звезд… Не было бы ни вуза, в котором ты учишься, ни того тихого вечернего часа, когда тысячи и тысячи жителей столицы склоняются над интересной книгой, идут в концертный зал и в театр. Она, доярка, понимает, что она — творец жизни. Вот в чем сущность идеального в “простом”, так называемом “рядовом” человеке. Вот в чем корень трудового творчества. Не было бы над миром нашего багряного знамени революции, если бы не тысячи и тысячи доярок и пахарей, шахтеров и металлургов. Идеальный человек- это не икона, не безгрешное существо, покрытое “хрестоматийным глянцем”. Идеальное — в самой нашей жизни. Посмотри внимательнее вокруг себя, присмотрись к людям, постарайся увидеть не то, что на поверхности, а глубинное, внутреннее — и ты увидишь идеальное.
Доярка, создающая материальные ценности, заботится не только о материальном благополучии. Если бы не труд этой “простой”, “рядовой”, доярки, не было бы ни прекрасных песен Пахмутовой, ни симфоний Шостаковича, ни дерзкой мечты академика Амбарцумяна о рождении сверхновых звезд… Не было бы ни вуза, в котором ты учишься, ни того тихого вечернего часа, когда тысячи и тысячи жителей столицы склоняются над интересной книгой, идут в концертный зал и в театр. Она, доярка, понимает, что она — творец жизни. Вот в чем сущность идеального в “простом”, так называемом “рядовом” человеке. Вот в чем корень трудового творчества. Не было бы над миром нашего багряного знамени революции, если бы не тысячи и тысячи доярок и пахарей, шахтеров и металлургов. Идеальный человек- это не икона, не безгрешное существо, покрытое “хрестоматийным глянцем”. Идеальное — в самой нашей жизни. Посмотри внимательнее вокруг себя, присмотрись к людям, постарайся увидеть не то, что на поверхности, а глубинное, внутреннее — и ты увидишь идеальное.
Жизнь была бы сплошным прозябанием, если бы перед человеком не сияла его путеводная звезда — идеал. Желаю тебе, мой сын, доброго здоровья и бодрого духа. Крепко целую тебя. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Получил твое письмо. Наконец, начались твои занятия. Ты с восторгом пишешь о богатых кабинетах по радиофизике и электронике. Меня радует, что ты утверждаешься в своем призвании. Если ты уверен, и жизнь подтвердит, что радиофизика — твое любимое дело, значит, ты будешь счастливым человеком. Но призвание — это не что-то приходящее к человеку извне. Если бы в средней школе, начиная, наверное, со второго класса, ты не сидел над схемами радиоприемников, если бы не трудился — вряд ли появилось бы это призвание. Призвание — это маленький росточек таланта, превратившийся в крепкое, могучее дерево на благодатной почве трудолюбия. Без трудолюбия, без самовоспитания этот маленький росток может засохнуть на корню. Найти свое призвание, утвердиться в нем — это источник счастья. Есть у Марка Твена интересный рассказ [9]. В нем говорится: на “том” свете нет ни ангелов, ни святых, ни божественного ничегонеделания, а живут люди в раю такой же трудовой жизнью, как и на грешной земле. Отличается рай от земли только одним: там каждый занимается делом по своему призванию. Безвестный на земле сапожник становится после смерти знаменитым полководцем, а бездарный при жизни, но обладающий каллиграфическим почерком генерал довольствуется в штабе скромной ролью писаря. Писатель, надоевший читателям нудными, никому не нужными романами, находит свое истинное призвание в профессии токаря по металлу. Человек, случайно попавший в педагоги, всю жизнь мучивший и себя, и учеников, оказывается прекрасным бухгалтером. Я не один раз перечитывал этот замечательный рассказ. Хорошо было бы добиться такого положения уже на “этом” свете.
Найти свое призвание, утвердиться в нем — это источник счастья. Есть у Марка Твена интересный рассказ [9]. В нем говорится: на “том” свете нет ни ангелов, ни святых, ни божественного ничегонеделания, а живут люди в раю такой же трудовой жизнью, как и на грешной земле. Отличается рай от земли только одним: там каждый занимается делом по своему призванию. Безвестный на земле сапожник становится после смерти знаменитым полководцем, а бездарный при жизни, но обладающий каллиграфическим почерком генерал довольствуется в штабе скромной ролью писаря. Писатель, надоевший читателям нудными, никому не нужными романами, находит свое истинное призвание в профессии токаря по металлу. Человек, случайно попавший в педагоги, всю жизнь мучивший и себя, и учеников, оказывается прекрасным бухгалтером. Я не один раз перечитывал этот замечательный рассказ. Хорошо было бы добиться такого положения уже на “этом” свете. Но, к сожалению, очень часто бывает совершенно по-другому. Я знаю много никудышних специалистов: агрономов, учителей, инженеров, артистов. Они, как говорится, маются всю жизнь, равнодушны к своему делу, отбывают день до вечера. Самое прискорбное то, что эти люди не знают радости труда, трудовой одухотворенности, одержимости. В чем высшее наслаждение жизни? По-моему, в творческом труде, чем-то приближающемся к искусству. Это приближение — в мастерстве. Если человек влюблен в свой труд, он стремится, чтобы и в самом процессе труда, и в его результатах было что-то красивое. Я уже писал тебе о нашем садоводе и лесоводе Ефиме Филипповиче. За всю свою жизнь я встретил не больше двадцати таких людей, как он. Изумительный это человек; в мастерстве труда, своего дела я без какого бы то ни было преувеличения сравниваю его со Станиславским и Пластовым, с Шостаковичем и Алексеем Улесовым (я расскажу тебе об этом человеке).
Но, к сожалению, очень часто бывает совершенно по-другому. Я знаю много никудышних специалистов: агрономов, учителей, инженеров, артистов. Они, как говорится, маются всю жизнь, равнодушны к своему делу, отбывают день до вечера. Самое прискорбное то, что эти люди не знают радости труда, трудовой одухотворенности, одержимости. В чем высшее наслаждение жизни? По-моему, в творческом труде, чем-то приближающемся к искусству. Это приближение — в мастерстве. Если человек влюблен в свой труд, он стремится, чтобы и в самом процессе труда, и в его результатах было что-то красивое. Я уже писал тебе о нашем садоводе и лесоводе Ефиме Филипповиче. За всю свою жизнь я встретил не больше двадцати таких людей, как он. Изумительный это человек; в мастерстве труда, своего дела я без какого бы то ни было преувеличения сравниваю его со Станиславским и Пластовым, с Шостаковичем и Алексеем Улесовым (я расскажу тебе об этом человеке).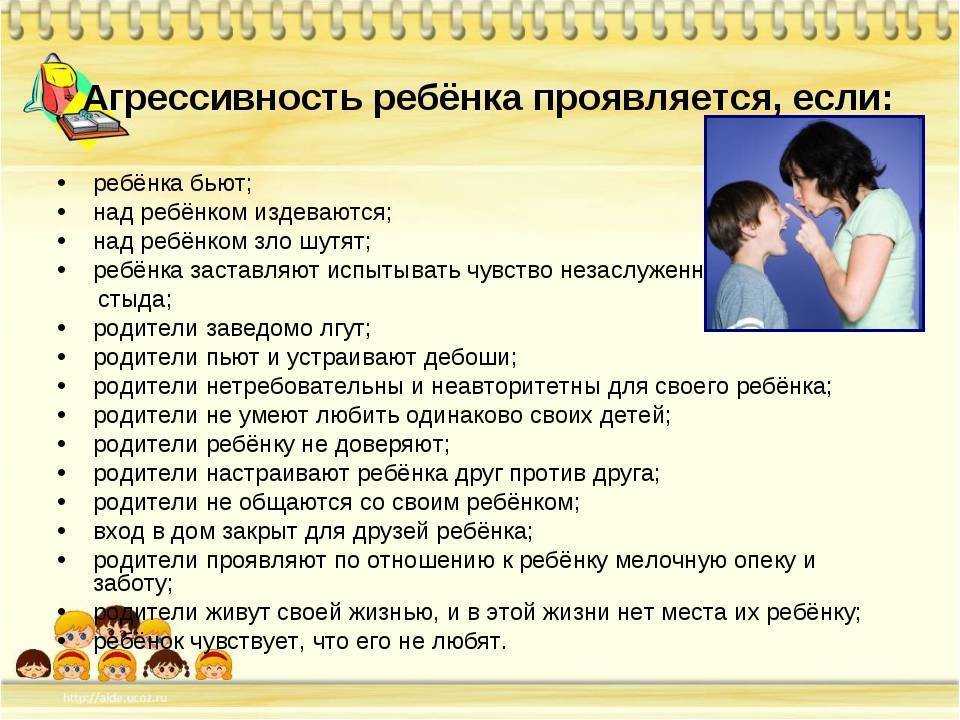 Он лепит, творит, создает дерево, как Станиславский создавал образ, как Пластов творит жизнь на куске холста. Я видел, как он несколько раз осматривает со всех сторон маленький дичок, приглядываясь, находя ту, как он говорит, единственную точку, где надо произвести прививку. Находит эту точку, появляется маленький росток, и с этого времени начинается то великое колдовство труда, благодаря которому человек становится гордым творцом, художником, поэтом в своем деле. Ефим Филиппович творит удивительной красоты крону дерева. Чтобы научиться этому, познать это — надо поработать рядом с ним не один год. И это будет познание человека, постижение красоты, искусства. В этом труде — великое счастье бытия. Трудясь, познавать красоту в самом себе — вот настоящий труд. Я среди тысяч трехлетних саженцев всегда найду единственный, выращенный руками Ефима Филипповича. Все его деревья устремлены к солнцу. Ветви расположены в кроне его дерева так, что солнце играет на каждом листочке, листья не затеняют друг друга.
Он лепит, творит, создает дерево, как Станиславский создавал образ, как Пластов творит жизнь на куске холста. Я видел, как он несколько раз осматривает со всех сторон маленький дичок, приглядываясь, находя ту, как он говорит, единственную точку, где надо произвести прививку. Находит эту точку, появляется маленький росток, и с этого времени начинается то великое колдовство труда, благодаря которому человек становится гордым творцом, художником, поэтом в своем деле. Ефим Филиппович творит удивительной красоты крону дерева. Чтобы научиться этому, познать это — надо поработать рядом с ним не один год. И это будет познание человека, постижение красоты, искусства. В этом труде — великое счастье бытия. Трудясь, познавать красоту в самом себе — вот настоящий труд. Я среди тысяч трехлетних саженцев всегда найду единственный, выращенный руками Ефима Филипповича. Все его деревья устремлены к солнцу. Ветви расположены в кроне его дерева так, что солнце играет на каждом листочке, листья не затеняют друг друга.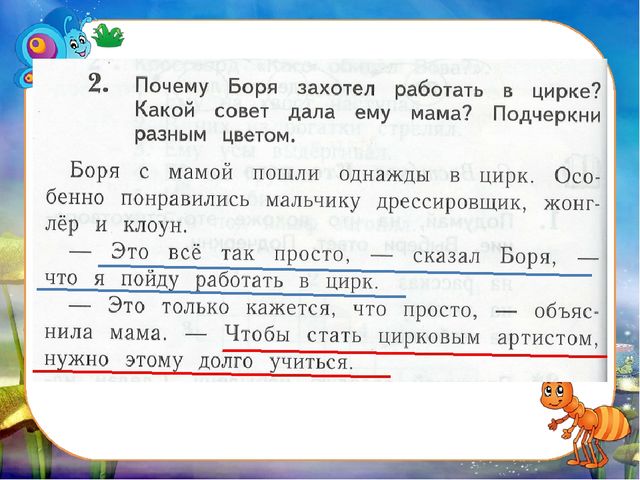 — Как Вы это делаете? — спросил я однажды у Ефима Филипповича.- Мудрость человеческая — на кончиках пальцев,- ответил он.- Я начал трудиться с трех лет. И вам советую так воспитывать школьников. Каждый должен быть господином в своем деле — вот что еще нельзя забывать. Если бы я стал учиться на инженера, или на врача, или на учителя — ничего не вышло бы из меня. Получился бы человек, зарабатывающий на хлеб насущный… Надо, чтобы в каждом человеке разгорелась его “искра”- вот тогда и получится настоящий человек. Призвание творит тот, кто творит человека,- все, кто его воспитывают. Но и сам хозяин задатков творит свое призвание. Ты любишь музыку Баха. Так вот, в роду Иоганна Себастьяна Баха было 58 музыкантов. Прадед музыкант, дед музыкант, отец музыкант… Даже браки заключались внутри этого рода. Что же, получается так, как будто бы уже при рождении было предопределено: человек этот будет композитором или выдающимся исполнителем? Известно, что приблизительно 80 % рожденных могут стать композиторами.
— Как Вы это делаете? — спросил я однажды у Ефима Филипповича.- Мудрость человеческая — на кончиках пальцев,- ответил он.- Я начал трудиться с трех лет. И вам советую так воспитывать школьников. Каждый должен быть господином в своем деле — вот что еще нельзя забывать. Если бы я стал учиться на инженера, или на врача, или на учителя — ничего не вышло бы из меня. Получился бы человек, зарабатывающий на хлеб насущный… Надо, чтобы в каждом человеке разгорелась его “искра”- вот тогда и получится настоящий человек. Призвание творит тот, кто творит человека,- все, кто его воспитывают. Но и сам хозяин задатков творит свое призвание. Ты любишь музыку Баха. Так вот, в роду Иоганна Себастьяна Баха было 58 музыкантов. Прадед музыкант, дед музыкант, отец музыкант… Даже браки заключались внутри этого рода. Что же, получается так, как будто бы уже при рождении было предопределено: человек этот будет композитором или выдающимся исполнителем? Известно, что приблизительно 80 % рожденных могут стать композиторами.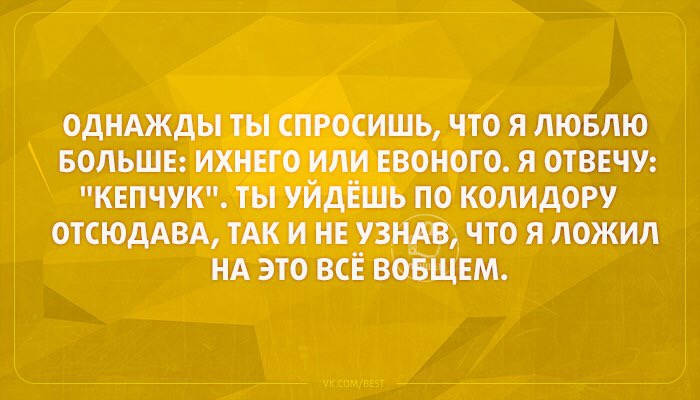 Становятся же ими единицы. Почему же это так? Почему же все-таки в роду Баха было 58 выдающихся музыкантов? Потому, что эти люди сами творили свое призвание. Потому, что первым впечатлением жизни каждого ребенка в этом роду была музыка; первой красотой, познанной в окружающем мире,- музыкальная мелодия; первым удивлением, изумлением — было удивление, изумление перед музыкой; первой гордостью, пережитой человеком,- гордость наслаждения красотой музыки, гордость творения, создания музыки. Человек господин своего призвания. Я без особенного энтузиазма отношусь к твоим восторгам: ах, какое счастье стать радиофизиком; ах, как я люблю радиофизику. Любить можно то, чему уже отдал частицу своей души. Это очень хорошо, что ты относишься с интересом к радиофизике, но помни, что это еще только интерес. Призванием же становится интерес, помноженный на труд. И множимое всегда во много раз меньше, чем множитель, лишь тогда производное-солидная величина.
Становятся же ими единицы. Почему же это так? Почему же все-таки в роду Баха было 58 выдающихся музыкантов? Потому, что эти люди сами творили свое призвание. Потому, что первым впечатлением жизни каждого ребенка в этом роду была музыка; первой красотой, познанной в окружающем мире,- музыкальная мелодия; первым удивлением, изумлением — было удивление, изумление перед музыкой; первой гордостью, пережитой человеком,- гордость наслаждения красотой музыки, гордость творения, создания музыки. Человек господин своего призвания. Я без особенного энтузиазма отношусь к твоим восторгам: ах, какое счастье стать радиофизиком; ах, как я люблю радиофизику. Любить можно то, чему уже отдал частицу своей души. Это очень хорошо, что ты относишься с интересом к радиофизике, но помни, что это еще только интерес. Призванием же становится интерес, помноженный на труд. И множимое всегда во много раз меньше, чем множитель, лишь тогда производное-солидная величина. Я хочу тебе кое-что посоветовать. Наука развивается ныне стремительными темпами. Если хочешь быть хорошим специалистом в своем деле, внимательно следи за новинками в области радиофизики. То, что дают на лекциях,- лишь незначительная часть знаний, нужных тебе, как воздух. Установи сам себе вот какое правило: ежедневно, буквально ежедневно-ив праздник, и в выходной-прочитывать и штудировать хотя бы пять страниц из научных журналов по радиофизике и смежным наукам электронике, бионике, астрофизике, космической биологии и др. Я еще раз повторяю: делать это надо ежедневно. Вот пришел ты, скажем, с демонстрации по случаю первомайского праздника — не забывай о своих пяти страницах. За тебя этого никто не сделает. Помни, что на стыках наук рождаются открытия, таится неизведанное. Поэтому с особенным вниманием относись к смежным наукам. Я не случайно употребляю слово штудировать. Студент должен глубоко осмысливать, трансформировать факты и выводы в своем сознании и только после осмысливания записывать в рабочую тетрадь.
Я хочу тебе кое-что посоветовать. Наука развивается ныне стремительными темпами. Если хочешь быть хорошим специалистом в своем деле, внимательно следи за новинками в области радиофизики. То, что дают на лекциях,- лишь незначительная часть знаний, нужных тебе, как воздух. Установи сам себе вот какое правило: ежедневно, буквально ежедневно-ив праздник, и в выходной-прочитывать и штудировать хотя бы пять страниц из научных журналов по радиофизике и смежным наукам электронике, бионике, астрофизике, космической биологии и др. Я еще раз повторяю: делать это надо ежедневно. Вот пришел ты, скажем, с демонстрации по случаю первомайского праздника — не забывай о своих пяти страницах. За тебя этого никто не сделает. Помни, что на стыках наук рождаются открытия, таится неизведанное. Поэтому с особенным вниманием относись к смежным наукам. Я не случайно употребляю слово штудировать. Студент должен глубоко осмысливать, трансформировать факты и выводы в своем сознании и только после осмысливания записывать в рабочую тетрадь. Не переписывать научную статью или учебник, а записывать то, что у тебя уже отложилось в сознании. Чем больше ты будешь углубляться мысленно в предмет, который ты считаешь своим призванием, тем в большей мере он будет твоим призванием. И еще один совет. В любой специальности есть теоретическое штудирование и практическая работа, творчество. А по радиофизике практическая работа может быть особенно интересной. Пользуйся малейшей возможностью потрудиться в лаборатории, в мастерской. Монтируй радиоприемник в действующие модели, управляемые по радио. И никогда не удовлетворяйся посредственным результатом. Стремись к совершенству — в этом путь к воспитанию призвания. Не получилось первый раз — делай заново, не гнушайся самой простой, черновой работы. Тренируй, упражняй руку. Добивайся, чтобы рука твоя была важнейшим инструментом, орудием мастерства. У меня есть интересная статья о руке, о ручном труде.
Не переписывать научную статью или учебник, а записывать то, что у тебя уже отложилось в сознании. Чем больше ты будешь углубляться мысленно в предмет, который ты считаешь своим призванием, тем в большей мере он будет твоим призванием. И еще один совет. В любой специальности есть теоретическое штудирование и практическая работа, творчество. А по радиофизике практическая работа может быть особенно интересной. Пользуйся малейшей возможностью потрудиться в лаборатории, в мастерской. Монтируй радиоприемник в действующие модели, управляемые по радио. И никогда не удовлетворяйся посредственным результатом. Стремись к совершенству — в этом путь к воспитанию призвания. Не получилось первый раз — делай заново, не гнушайся самой простой, черновой работы. Тренируй, упражняй руку. Добивайся, чтобы рука твоя была важнейшим инструментом, орудием мастерства. У меня есть интересная статья о руке, о ручном труде.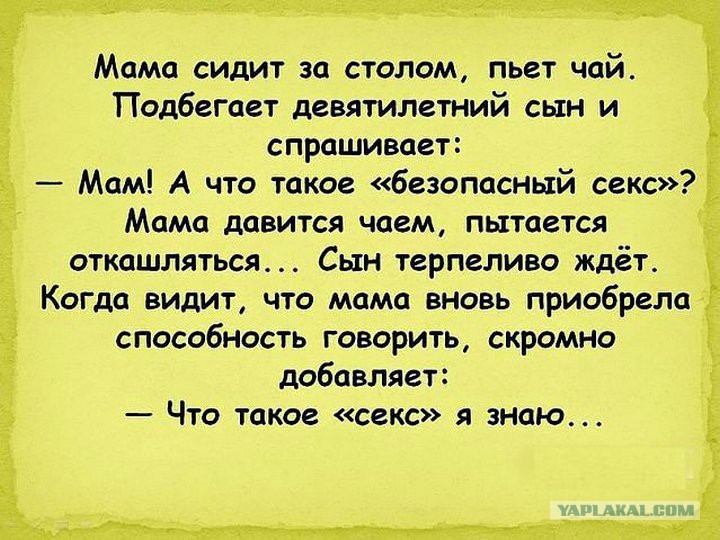 Высылаю ее тебе одновременно с письмом. Хочется, чтобы и у тебя она пробудила такое же чувство изумления, как у меня. Прошу тебя, посмотри, нет ли в книжных магазинах чего-нибудь нового по психологии труда, творчества. Если есть — купи и пришли. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец. [6]. Добрый день, дорогой сын!
Высылаю ее тебе одновременно с письмом. Хочется, чтобы и у тебя она пробудила такое же чувство изумления, как у меня. Прошу тебя, посмотри, нет ли в книжных магазинах чего-нибудь нового по психологии труда, творчества. Если есть — купи и пришли. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец. [6]. Добрый день, дорогой сын!
Я очень рад, что ты в своем последнем письме споришь со мной. Хорошо, просто замечательно. По-видимому, проблема призвания — одна из самых волнующих проблем. Ты обвиняешь меня в переоценке роли воспитания и самовоспитания и в недооценке того, что дано человеку природой. Да, Бетховен уже в пятилетнем возрасте писал свои первые музыкальные произведения. Но это объясняется в первую очередь исключительно благоприятными условиями, в которых проходило детство Бетховена. Попади он в обстановку, где нет никаких музыкальных инструментов, где люди не знают, что такое мелодия — никогда бы в нем не родился талант музыканта. Я уверен, что в тысячах людей пока еще пропадают задатки, данные природой; тысячи людей могли бы стать выдающимися учеными, поэтами, композиторами, если бы их детство проходило в условиях, благоприятствующих рождению таланта. В том и заключается высокий гуманизм коммунистического идеала, что ни один задаток при коммунизме не останется не развившимся, все задатки будут расцветать и развиваться в таланты. Именно коммунизм ставит своим идеалом то, чтобы каждый человек стал талантливым тружеником, талантливым творцом. Талантливый слесарь, талантливый электросварщик, талантливый агротехник, талантливый животновод — вот идеал нашего воспитания, и я глубоко верю в этот идеал. Я знаю людей, ставших талантливыми тружениками как раз потому, что воспитание раскрыло в них живинку, заложенную природой. Коммунизм — изумительная гармония природного и общественного в человеке. Я люблю свой педагогический труд как раз за то, что главное в нем — познание человека.
Я уверен, что в тысячах людей пока еще пропадают задатки, данные природой; тысячи людей могли бы стать выдающимися учеными, поэтами, композиторами, если бы их детство проходило в условиях, благоприятствующих рождению таланта. В том и заключается высокий гуманизм коммунистического идеала, что ни один задаток при коммунизме не останется не развившимся, все задатки будут расцветать и развиваться в таланты. Именно коммунизм ставит своим идеалом то, чтобы каждый человек стал талантливым тружеником, талантливым творцом. Талантливый слесарь, талантливый электросварщик, талантливый агротехник, талантливый животновод — вот идеал нашего воспитания, и я глубоко верю в этот идеал. Я знаю людей, ставших талантливыми тружениками как раз потому, что воспитание раскрыло в них живинку, заложенную природой. Коммунизм — изумительная гармония природного и общественного в человеке. Я люблю свой педагогический труд как раз за то, что главное в нем — познание человека. Воспитывая, я прежде всего познаю человека, рассматриваю те многочисленные грани его души, в которых где-то таится то, что из человека выйдет, если к этим граням умело прикоснуться и отшлифовать их. Видение граней неисчерпаемой человеческой души — это и есть мастерство воспитания. Вот передо мной ребенок, которому с трудом дается математика, нелегко ему изучить и грамматику, нет у него ярко выраженных ни математического, ни художественного мышления. Но что же у него есть? Есть, как и у каждого человека, неисчерпаемая душа с той не замеченной, не увиденной мною гранью задатка, в которой таится его счастье, его будущее,если воспитатель откроет и отшлифует эту грань. Он может стать талантливым механизатором, талантливым хлеборобом, талантливым столяром — сумей только открыть его единственную грань. Я твердо верю: наступит время, когда не будет в нашем обществе ни одного бесталанного, недоучившегося, разочаровавшегося в жизни человека.
Воспитывая, я прежде всего познаю человека, рассматриваю те многочисленные грани его души, в которых где-то таится то, что из человека выйдет, если к этим граням умело прикоснуться и отшлифовать их. Видение граней неисчерпаемой человеческой души — это и есть мастерство воспитания. Вот передо мной ребенок, которому с трудом дается математика, нелегко ему изучить и грамматику, нет у него ярко выраженных ни математического, ни художественного мышления. Но что же у него есть? Есть, как и у каждого человека, неисчерпаемая душа с той не замеченной, не увиденной мною гранью задатка, в которой таится его счастье, его будущее,если воспитатель откроет и отшлифует эту грань. Он может стать талантливым механизатором, талантливым хлеборобом, талантливым столяром — сумей только открыть его единственную грань. Я твердо верю: наступит время, когда не будет в нашем обществе ни одного бесталанного, недоучившегося, разочаровавшегося в жизни человека. В каждом откроется его светлая грань. Это пока еще мечта, но это будет, я твердо верю в могучую силу воспитания. Я знаю людей, влюбленных в самый, казалось бы, простой, ничем не примечательный труд, они стали в этом труде поэтами, художниками, достигли вершины творчества — и все это именно благодаря тому, что их жизнь озарена счастливой гармонией того, что дала природа, и того, что дало воспитание. Я лично знаком со знатным человеком нашей страны, дважды Героем Социалистического Труда Алексеем Улесовым — строителем-электросварщиком. Потянуло меня на стройку мальчишкой,- рассказывает он. Увидел, как варит товарищ огненной сваркой шов — и, как завороженный, ходил за ним следом: “Научи”. Научился. Строил я и города на севере, и гидроэлектростанции. Стоит только раз в жизни ощутить счастье того, что ты творец на земле. Стоит разок увидеть, как вырастают и заселяются дома, как твоя электростанция, твой первый агрегат дадут ток.
В каждом откроется его светлая грань. Это пока еще мечта, но это будет, я твердо верю в могучую силу воспитания. Я знаю людей, влюбленных в самый, казалось бы, простой, ничем не примечательный труд, они стали в этом труде поэтами, художниками, достигли вершины творчества — и все это именно благодаря тому, что их жизнь озарена счастливой гармонией того, что дала природа, и того, что дало воспитание. Я лично знаком со знатным человеком нашей страны, дважды Героем Социалистического Труда Алексеем Улесовым — строителем-электросварщиком. Потянуло меня на стройку мальчишкой,- рассказывает он. Увидел, как варит товарищ огненной сваркой шов — и, как завороженный, ходил за ним следом: “Научи”. Научился. Строил я и города на севере, и гидроэлектростанции. Стоит только раз в жизни ощутить счастье того, что ты творец на земле. Стоит разок увидеть, как вырастают и заселяются дома, как твоя электростанция, твой первый агрегат дадут ток. Для меня это — великое счастье жизни… Или другой мой товарищ — знатный животновод нашей страны Станислав Иванович Штейман. Вот что рассказывает он о своем труде: — Мне никогда не приходилось летать, лазить по горам, плавать по морю. Большую часть своей жизни провел я на скотных дворах и в телятниках. Но, когда вспоминаю прожитую жизнь и работу, мне кажется, что, подобно путешественнику, я не раз пробирался неведомыми тропами, не зная, что ждет меня за поворотом, не раз я чувствовал себя альпинистом, который взбирается на могучие вершины… Вдумайся в эти слова, сын. Это говорит бывший батрак-пастух, жизнь у него сложилась так, что за школьной партой он ни одного дня не учился, и только благодаря настойчивому труду стал выдающимся ученым, доктором наук, человеком, которому удалось вывести новую, так называемую костромскую породу коров. Всю свою жизнь он безвыездно работал в совхозе “Караваево”. Вот тебе еще одно подтверждение того, что человек — творец своего призвания.
Для меня это — великое счастье жизни… Или другой мой товарищ — знатный животновод нашей страны Станислав Иванович Штейман. Вот что рассказывает он о своем труде: — Мне никогда не приходилось летать, лазить по горам, плавать по морю. Большую часть своей жизни провел я на скотных дворах и в телятниках. Но, когда вспоминаю прожитую жизнь и работу, мне кажется, что, подобно путешественнику, я не раз пробирался неведомыми тропами, не зная, что ждет меня за поворотом, не раз я чувствовал себя альпинистом, который взбирается на могучие вершины… Вдумайся в эти слова, сын. Это говорит бывший батрак-пастух, жизнь у него сложилась так, что за школьной партой он ни одного дня не учился, и только благодаря настойчивому труду стал выдающимся ученым, доктором наук, человеком, которому удалось вывести новую, так называемую костромскую породу коров. Всю свою жизнь он безвыездно работал в совхозе “Караваево”. Вот тебе еще одно подтверждение того, что человек — творец своего призвания.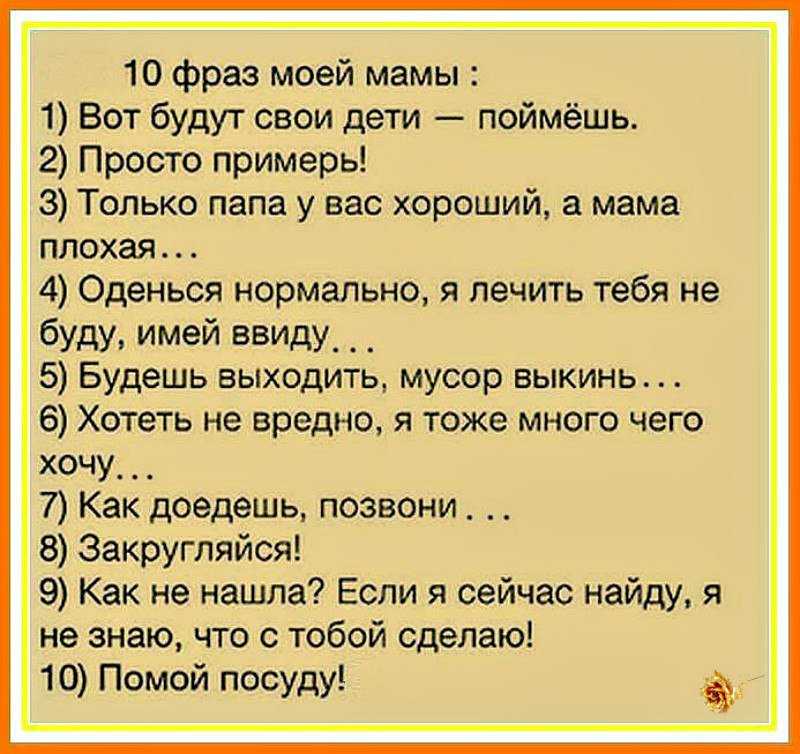 Только через труд лежит путь к мудрости, творчеству, науке. Утверждать в себе призвание-это значит что-то делать, что-то создавать, а не заучивать готовые истины, не копаться в своих чувствах, пытаясь найти ответ на вопрос: нравится ли мне эта работа или не нравится? Нравится человеку то, во что он вложил частицу своей души-это самое главное. Еще раз советую тебе: никогда не пренебрегай самым простым, самым “черным”, “грязным” трудом — с него начинается творчество. До свидания, дорогой сын. Желаю тебе доброго здоровья и бодрого духа. Твой отец.
Только через труд лежит путь к мудрости, творчеству, науке. Утверждать в себе призвание-это значит что-то делать, что-то создавать, а не заучивать готовые истины, не копаться в своих чувствах, пытаясь найти ответ на вопрос: нравится ли мне эта работа или не нравится? Нравится человеку то, во что он вложил частицу своей души-это самое главное. Еще раз советую тебе: никогда не пренебрегай самым простым, самым “черным”, “грязным” трудом — с него начинается творчество. До свидания, дорогой сын. Желаю тебе доброго здоровья и бодрого духа. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Ты сомневаешься, прав ли председатель колхоза, ответивший студенту, который критиковал его на собрании: “Правду говоришь, но правда сама не побеждает. Правду надо подталкивать плечом, как пушку на трудной переправе”. Ты возмущаешься: ведь студент прав, колхоз из года в год теряет от двадцати до пятидесяти сотых гектара плодородной почвы — пожирает эрозия. Там, где двадцать лет назад колосилась пшеница, сейчас овраг. Правда это или нет? спрашиваешь ты.- Если правда, то почему председатель отвечает так, как будто студент — демагог? Сложные это вопросы нашей жизни, сын. Расскажу тебе одну быль. С детства запомнился мне один человек в нашей деревне. Звали его Захарка, была и фамилия, но никто не помнил фамилии, а называли его все Праведником. Почему Праведник- в этом и вся суть моего рассказа. Был он безобидным, справедливым, очень честным, по-крестьянски праведным бездельником. Люди организовали колхоз, все работали — кто в поле, кто на свинарнике, кто на конюшне — а он, Захарка, околачивался везде и всюду и ничего не делал. Но зато всегда изрекал правильные, справедливые истины вот за это его и прозвали Праведником. Сидят колхозники вечером у дверей конторы, разговаривают о делах, о прошлом и будущем. Появляется Захарка и изрекает истину: — Сеять пора, а дождей нет.
Там, где двадцать лет назад колосилась пшеница, сейчас овраг. Правда это или нет? спрашиваешь ты.- Если правда, то почему председатель отвечает так, как будто студент — демагог? Сложные это вопросы нашей жизни, сын. Расскажу тебе одну быль. С детства запомнился мне один человек в нашей деревне. Звали его Захарка, была и фамилия, но никто не помнил фамилии, а называли его все Праведником. Почему Праведник- в этом и вся суть моего рассказа. Был он безобидным, справедливым, очень честным, по-крестьянски праведным бездельником. Люди организовали колхоз, все работали — кто в поле, кто на свинарнике, кто на конюшне — а он, Захарка, околачивался везде и всюду и ничего не делал. Но зато всегда изрекал правильные, справедливые истины вот за это его и прозвали Праведником. Сидят колхозники вечером у дверей конторы, разговаривают о делах, о прошлом и будущем. Появляется Захарка и изрекает истину: — Сеять пора, а дождей нет. Земля — как камень. Бросишь зерно — пропадет. Скажет и молчит. Или в другой раз: — Вот какие ранние в этом году заморозки. За одну ночь поморозило все помидоры. А один раз было такое дело. После летнего ливня прибежал Захарка на колхозный двор, подошел к колхозникам, уставился голубыми глазами своими в небо и говорит, как мертвеца пеленают (так говорят, когда хотят подчеркнуть безразличие слов): За Дубовой Балкой град пошел. Сто десятин пшеницы пропало. Знали колхозники, что Захарка говорил истинную правду, но все же избили его. Не могли сдержать возмущения. Избили с большой находчивостью: сняли с Захарки грязные его штанишки и “пощекотали немножко вербовыми прутиками с крапивой, где следует…” Почему возмутились люди Захаркиной правдой? Потому что за его холодными, равнодушными словами, за этим “пеленаньем мертвеца” чувствовали мыслишку: вот она, правда, ее вам выкладываю, а сам остаюсь в стороне, мое-то какое дело… Таких “правдолюбцев” народ не любит.
Земля — как камень. Бросишь зерно — пропадет. Скажет и молчит. Или в другой раз: — Вот какие ранние в этом году заморозки. За одну ночь поморозило все помидоры. А один раз было такое дело. После летнего ливня прибежал Захарка на колхозный двор, подошел к колхозникам, уставился голубыми глазами своими в небо и говорит, как мертвеца пеленают (так говорят, когда хотят подчеркнуть безразличие слов): За Дубовой Балкой град пошел. Сто десятин пшеницы пропало. Знали колхозники, что Захарка говорил истинную правду, но все же избили его. Не могли сдержать возмущения. Избили с большой находчивостью: сняли с Захарки грязные его штанишки и “пощекотали немножко вербовыми прутиками с крапивой, где следует…” Почему возмутились люди Захаркиной правдой? Потому что за его холодными, равнодушными словами, за этим “пеленаньем мертвеца” чувствовали мыслишку: вот она, правда, ее вам выкладываю, а сам остаюсь в стороне, мое-то какое дело… Таких “правдолюбцев” народ не любит.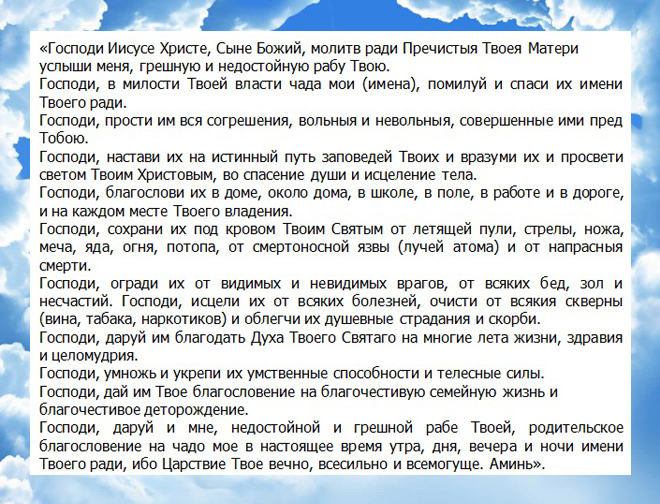 Я так думаю, что председателю колхоза очень уж надоела болтовня о вреде, который причиняет эрозия. По опыту нашего колхоза я знаю, что председателю колхоза очень трудно по-настоящему бороться с эрозией. Очень уж емкое, сложное, иногда обманчивое это понятие — истина. Нет абстрактной истины, истины вообще. Нет абстрактной правды. Есть единственная правда — та, что дает, приносит, делает добро людям. Кто пытается выступить в роли проповедника истины во имя истины — без намерения сделать истину, образно говоря, инструментом создания счастья для людей,- тот может оказаться в положении Захарки Праведника. Истина — в корне всего того, что мы видим, делаем. Если хочешь найти истину, а поиски истины — это тоже большой труд, когда открывают истину для того, чтобы людям было лучше, если хочешь найти истину, смотри в корень вещей. Вот интересная сказка, составленная нашими учениками четвертого класса — думаю, если ты замыслишься над ней, она поможет тебе понять сущность истины, а самое главное, научит смотреть и видеть, кому выгодна истина, как сделать из нее инструмент творения добра для народа, для человека труда.
Я так думаю, что председателю колхоза очень уж надоела болтовня о вреде, который причиняет эрозия. По опыту нашего колхоза я знаю, что председателю колхоза очень трудно по-настоящему бороться с эрозией. Очень уж емкое, сложное, иногда обманчивое это понятие — истина. Нет абстрактной истины, истины вообще. Нет абстрактной правды. Есть единственная правда — та, что дает, приносит, делает добро людям. Кто пытается выступить в роли проповедника истины во имя истины — без намерения сделать истину, образно говоря, инструментом создания счастья для людей,- тот может оказаться в положении Захарки Праведника. Истина — в корне всего того, что мы видим, делаем. Если хочешь найти истину, а поиски истины — это тоже большой труд, когда открывают истину для того, чтобы людям было лучше, если хочешь найти истину, смотри в корень вещей. Вот интересная сказка, составленная нашими учениками четвертого класса — думаю, если ты замыслишься над ней, она поможет тебе понять сущность истины, а самое главное, научит смотреть и видеть, кому выгодна истина, как сделать из нее инструмент творения добра для народа, для человека труда. Сказка называется:
Сказка называется:
Пряник и Колосок
Рано утром, до восхода солнца, взял Человек в карман белый Пряник и пошел в поле. В поле он ходил по посевам, любовался пшеницей. Сорвал Колосок, вынул из него зернышко, попробовал на зуб, улыбнулся. Спрятал Колосок в карман. Встретились Колосок и Пряник.
— Кто ты такой? — спросил Пряник. — Я Колосок. — Ух, какой ты колючий. А для чего ты существуешь? Какая от тебя польза? Улыбнулся Колосок, пошевелил усами-остьями и отвечает: — Без меня не было бы ни хлеба, ни сухаря, ни тебя. Пряник. Удивился Пряник, с уважением посмотрел на Колосок, потеснился, уступил ему место. — Значит,- говорит Пряник,- все от тебя. Но кто же над тобой старший? — Труд,- ответил Колосок.- Он все создает. Но труд — в руках Человека. Труд и Человек — самое главное.
Вот сказка, над которой стоит задуматься. Составили ее ученики четвертого класса, но чтобы поднять детей на такую ступеньку творчества, педагогу надо было годы вкладывать в сердце детей свои чувства, мысли, убеждения — частицу своей души.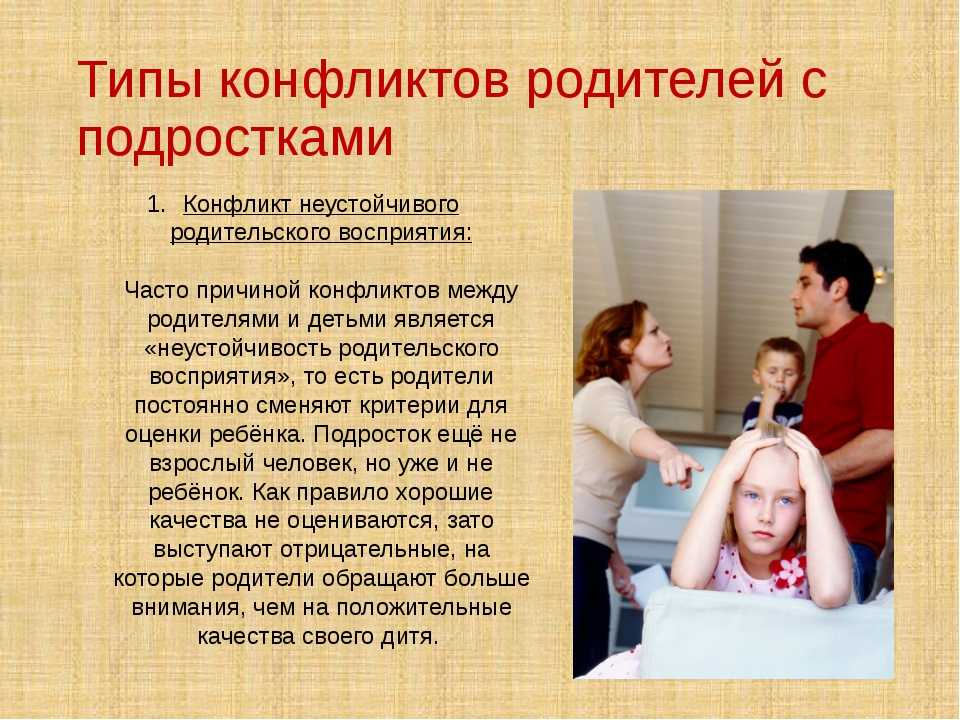 Труд и Человек, Человек и Труд-вот мать и отец всех истин. В воспитании молодого поколения это исключительно важно как входит истина в духовный мир Человека и как Человек, которого мы воспитываем, входит в мир истины. Горе воспитателю, если распустился цветочек, из которого может созреть Захарка Праведник (еще большее горе школе, если Захарка Праведник есть среди воспитателей). Есть в нашем деле такая святая вещь, как убеждения. Это тоже одна из самых горячих страниц книги педагогической мудрости: сколько копий сломано в спорах об убеждениях, сколько мыслей высказано, а все-таки до сих пор бывают такие случаи, что грудь у человека гранитная (знания), а ноги-глиняные (убеждения). Почему это так бывает? Потому что дети, подростки заучивают истины, но не принимают участия в борьбе за торжество истины. Не делают ничего, чтобы истина выражалась в творчестве, в труде, в действии. Наверное, за годы пребывания в школе и в институте человек тысячу раз слышит: надо трудиться на благо народа, труд-честь, безделие-срам и т.
Труд и Человек, Человек и Труд-вот мать и отец всех истин. В воспитании молодого поколения это исключительно важно как входит истина в духовный мир Человека и как Человек, которого мы воспитываем, входит в мир истины. Горе воспитателю, если распустился цветочек, из которого может созреть Захарка Праведник (еще большее горе школе, если Захарка Праведник есть среди воспитателей). Есть в нашем деле такая святая вещь, как убеждения. Это тоже одна из самых горячих страниц книги педагогической мудрости: сколько копий сломано в спорах об убеждениях, сколько мыслей высказано, а все-таки до сих пор бывают такие случаи, что грудь у человека гранитная (знания), а ноги-глиняные (убеждения). Почему это так бывает? Потому что дети, подростки заучивают истины, но не принимают участия в борьбе за торжество истины. Не делают ничего, чтобы истина выражалась в творчестве, в труде, в действии. Наверное, за годы пребывания в школе и в институте человек тысячу раз слышит: надо трудиться на благо народа, труд-честь, безделие-срам и т. д. А что иногда можно встретить в жизни? Недавно встретился мне фотограф, окончивший индустриальный институт. Десять выпускников одного университета в нашей республике не захотели ехать учителями в село и осели в городе: кто экспедитором, кто воду в ларьке продает, кто овощным магазином заведует. Почему же такая возвышенная истина, как благородство труда для людей, не стала духовной сердцевиной этих людей? Много лет не дает мне покоя мысль: наше воспитание лишь станет в полном смысле коммунистическим, когда эта самая возвышенная, самая благородная истина наших убеждений будет добиваться трудом, личными усилиями каждого воспитанника. Труд-величайшая красота, но труд, вместе с тем, и адски трудное дело. Познать эту истину — вот в чем один из секретов воспитания. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя.
д. А что иногда можно встретить в жизни? Недавно встретился мне фотограф, окончивший индустриальный институт. Десять выпускников одного университета в нашей республике не захотели ехать учителями в село и осели в городе: кто экспедитором, кто воду в ларьке продает, кто овощным магазином заведует. Почему же такая возвышенная истина, как благородство труда для людей, не стала духовной сердцевиной этих людей? Много лет не дает мне покоя мысль: наше воспитание лишь станет в полном смысле коммунистическим, когда эта самая возвышенная, самая благородная истина наших убеждений будет добиваться трудом, личными усилиями каждого воспитанника. Труд-величайшая красота, но труд, вместе с тем, и адски трудное дело. Познать эту истину — вот в чем один из секретов воспитания. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя.
Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Да, самое трудное должно стать самым любимым — в этом диалектика и логика формирования человека твердых убеждений.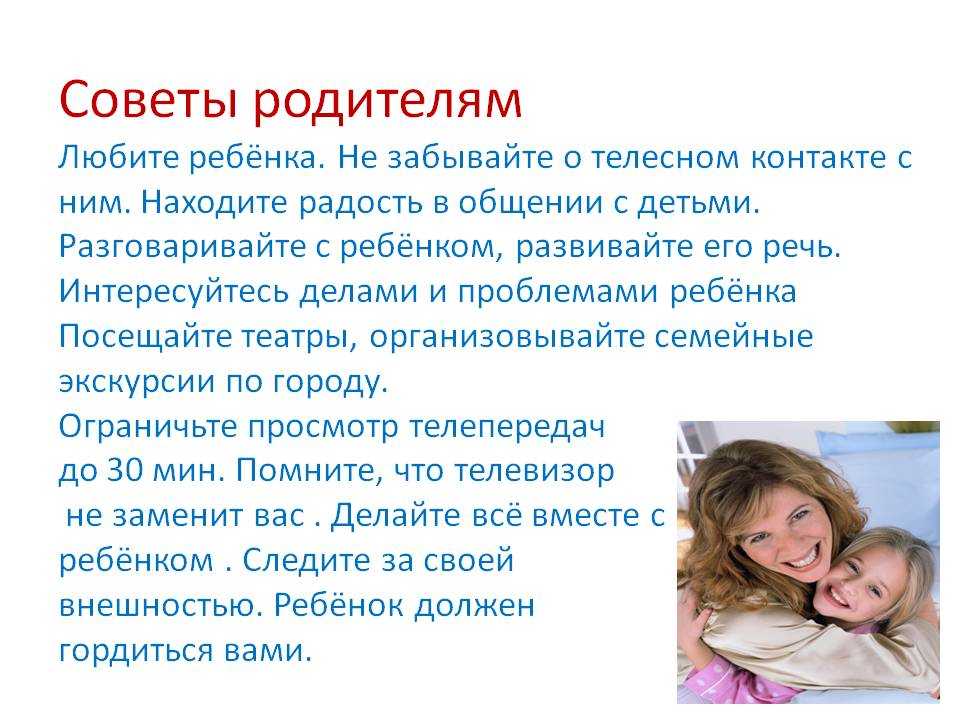 Лишь тем человек будет дорожить всю свою жизнь, что дорого ему досталось. Любовь к труду не вынешь из кармана и не положишь в руки маленькому человеку. Это сокровище, которое надо добывать трудом и только трудом. К сожалению, кое-кто верит, что радость нашей жизни, счастье бытия в социалистическом обществе можно открыть перед сознанием и сердцем юношества, только давая как можно больше материальных благ. Хочу, чтобы ты задумался о том, что не дает мне покоя: слишком уж легко достаются юношеству блага и радости жизни. У юношей и девушек воспитываются многие потребности, но, к сожалению, очень плохо воспитывается важнейшая из них-коммунистическая потребность в труде. Да, именно коммунистическая потребность. Я думаю, что это — глубоко личное, душевное тяготение к труду для людей. Такое состояние души, когда человек не смог бы жить без труда для общества, народа. ТРУД станет потребностью лишь тогда, когда перед человеком откроется радость труда.
Лишь тем человек будет дорожить всю свою жизнь, что дорого ему досталось. Любовь к труду не вынешь из кармана и не положишь в руки маленькому человеку. Это сокровище, которое надо добывать трудом и только трудом. К сожалению, кое-кто верит, что радость нашей жизни, счастье бытия в социалистическом обществе можно открыть перед сознанием и сердцем юношества, только давая как можно больше материальных благ. Хочу, чтобы ты задумался о том, что не дает мне покоя: слишком уж легко достаются юношеству блага и радости жизни. У юношей и девушек воспитываются многие потребности, но, к сожалению, очень плохо воспитывается важнейшая из них-коммунистическая потребность в труде. Да, именно коммунистическая потребность. Я думаю, что это — глубоко личное, душевное тяготение к труду для людей. Такое состояние души, когда человек не смог бы жить без труда для общества, народа. ТРУД станет потребностью лишь тогда, когда перед человеком откроется радость труда. Эту радость ни с чем не сравнить и не сопоставить. Ее не сравнишь с радостью, которую дает человеку экскурсия, спорт, досуг, художественные ценности. Радость труда трудная. Как ребенок, рожденный в муках. Путь к радости труда нелегок, его можно сравнить с напряжением воли альпиниста; мало приятного в карабканье по камням и скалам, но это необходимо для того, чтобы выразить себя, утвердить свою честь, свое достоинство. Дать человеку ни с чем не сравнимую радость труда для людей — вот миссия воспитателя. Добывать трудом эту радость — вот миссия человека, вставшего на путь самовоспитания. Чем больше я познаю духовный мир человека — моего питомца, тем глубже убеждаюсь, что, как Афродита из пены морской, настоящий человек рождается там, где трудно, где земля орошена потом, где пережито высокое чувство победы над трудностями, которые казались непреодолимыми. Это чувство является той нитью, которая связывает индивидуальный духовный мир человека — его интересы, стремления с общественными интересами и потребностями.
Эту радость ни с чем не сравнить и не сопоставить. Ее не сравнишь с радостью, которую дает человеку экскурсия, спорт, досуг, художественные ценности. Радость труда трудная. Как ребенок, рожденный в муках. Путь к радости труда нелегок, его можно сравнить с напряжением воли альпиниста; мало приятного в карабканье по камням и скалам, но это необходимо для того, чтобы выразить себя, утвердить свою честь, свое достоинство. Дать человеку ни с чем не сравнимую радость труда для людей — вот миссия воспитателя. Добывать трудом эту радость — вот миссия человека, вставшего на путь самовоспитания. Чем больше я познаю духовный мир человека — моего питомца, тем глубже убеждаюсь, что, как Афродита из пены морской, настоящий человек рождается там, где трудно, где земля орошена потом, где пережито высокое чувство победы над трудностями, которые казались непреодолимыми. Это чувство является той нитью, которая связывает индивидуальный духовный мир человека — его интересы, стремления с общественными интересами и потребностями. Подросток, который, оглядывая первое десятилетие своей сознательной жизни, видит свое прочно укоренившееся дерево, видит созревающие плоды винограда на кусте, который он посадил и взлелеял, видит колосок пшеницы там, где раньше ничего не росло, и этот колосок выращен его нелегким трудом, превратившим мертвую глину в плодородную почву,- такой подросток никогда не оставит в лесу старенькие калоши, не разорвет книгу, не пройдет равнодушно мимо ржавеющего в грязи куска железа или рассыпанных на земле минеральных удобрений. Общественное для него будет дороже личного, потому что оно не только личное, оно дает радость народу. Радость, добытая, постигнутая нелегким трудом,- это могучий воспитатель совести,- помни это всю жизнь, сын. Совесть — это, образно говоря, эмоциональный страж убеждений, и этого стража мы стремимся поставить в человеческом сердце тогда, когда человек ложится еще поперек лавки, как говорят в народе.
Подросток, который, оглядывая первое десятилетие своей сознательной жизни, видит свое прочно укоренившееся дерево, видит созревающие плоды винограда на кусте, который он посадил и взлелеял, видит колосок пшеницы там, где раньше ничего не росло, и этот колосок выращен его нелегким трудом, превратившим мертвую глину в плодородную почву,- такой подросток никогда не оставит в лесу старенькие калоши, не разорвет книгу, не пройдет равнодушно мимо ржавеющего в грязи куска железа или рассыпанных на земле минеральных удобрений. Общественное для него будет дороже личного, потому что оно не только личное, оно дает радость народу. Радость, добытая, постигнутая нелегким трудом,- это могучий воспитатель совести,- помни это всю жизнь, сын. Совесть — это, образно говоря, эмоциональный страж убеждений, и этого стража мы стремимся поставить в человеческом сердце тогда, когда человек ложится еще поперек лавки, как говорят в народе. Он, этот страж, будет неусыпным в твоем сердце, если ты, познав радость труда, ищешь потому эту радость на своем жизненном пути как самое важное условие личного счастья. Ты должен воспитывать себя и готовиться к воспитанию своих детей. В душу того, в ком ты повторишь себя, вложи глубокое убеждение, что хлеб насущный достается нелегким трудом, что в нем — недоспанные ночи и трудовые мозоли, пот и трудности. Вспомни свои детские годы. Вспомни, как вы, малыши-октябрята, пришли на пустырь, где не рос даже бурьян. Вы превратили его в плодородную почву, вырастив на ней пшеницу. Вы носили ил и перегной, перекапывали почву. Это нелегкое дело, и если исходить из шоколадных представлений о труде при коммунизме как о сплошном управлении машинами и механизмами, это непосильное, утомительное, однообразное занятие. Утомляет своим однообразием и подъем альпиниста к далекой вершине, но с каждым шагом все ближе вершина. Для вас вершиной был колосок пшеницы.
Он, этот страж, будет неусыпным в твоем сердце, если ты, познав радость труда, ищешь потому эту радость на своем жизненном пути как самое важное условие личного счастья. Ты должен воспитывать себя и готовиться к воспитанию своих детей. В душу того, в ком ты повторишь себя, вложи глубокое убеждение, что хлеб насущный достается нелегким трудом, что в нем — недоспанные ночи и трудовые мозоли, пот и трудности. Вспомни свои детские годы. Вспомни, как вы, малыши-октябрята, пришли на пустырь, где не рос даже бурьян. Вы превратили его в плодородную почву, вырастив на ней пшеницу. Вы носили ил и перегной, перекапывали почву. Это нелегкое дело, и если исходить из шоколадных представлений о труде при коммунизме как о сплошном управлении машинами и механизмами, это непосильное, утомительное, однообразное занятие. Утомляет своим однообразием и подъем альпиниста к далекой вершине, но с каждым шагом все ближе вершина. Для вас вершиной был колосок пшеницы.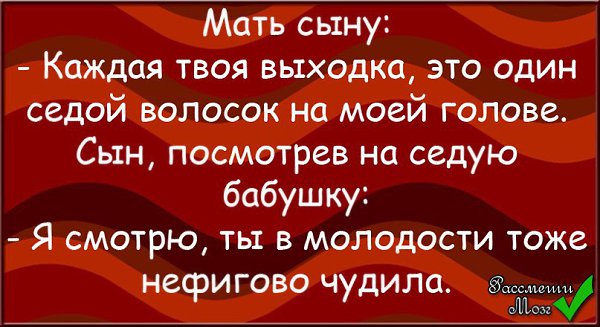 Первая горсть зерна, первый хлеб, выращенный собственными руками, первое гражданское чувство гордости — это и есть подлинно коммунистическое воспитание. Воспитывай это чувство в годы детства, помни, что ты — отец, повторяя себя в сыне,- творишь будущее своей Родины. Упустишь годы золотого детства-потом никогда не наверстаешь. Помни: каждая капля пота, пролитая в детстве, стоит многих дней трудового напряжения в зрелые годы. Каждая горсть зерна, выращенная в детские годы, является как бы крупным масштабом, который содержит горы золотой пшеницы, тучные нивы, годы труда старших поколений. Без преодоления трудностей, без перегрузок нет настоящего человека. Молодости должно быть трудно на пути к достижению возвышенных целей. Только при этом условии наш идеал — построение коммунизма — будет осознаваться и переживаться каждым как его собственная цель. Мы вводим вас, сыновья, в прекрасный дворец, имя которому — коммунистическое общество.
Первая горсть зерна, первый хлеб, выращенный собственными руками, первое гражданское чувство гордости — это и есть подлинно коммунистическое воспитание. Воспитывай это чувство в годы детства, помни, что ты — отец, повторяя себя в сыне,- творишь будущее своей Родины. Упустишь годы золотого детства-потом никогда не наверстаешь. Помни: каждая капля пота, пролитая в детстве, стоит многих дней трудового напряжения в зрелые годы. Каждая горсть зерна, выращенная в детские годы, является как бы крупным масштабом, который содержит горы золотой пшеницы, тучные нивы, годы труда старших поколений. Без преодоления трудностей, без перегрузок нет настоящего человека. Молодости должно быть трудно на пути к достижению возвышенных целей. Только при этом условии наш идеал — построение коммунизма — будет осознаваться и переживаться каждым как его собственная цель. Мы вводим вас, сыновья, в прекрасный дворец, имя которому — коммунистическое общество. Этот дворец — не место беззаботной пирушки, а улей, в который надо больше вносить, чем выносить из него; не музейный уникум, а стройка, в которую каждый обязан вложить свой кирпич. Ты стоишь на пороге самостоятельной жизни. Умей увидеть, как сделать, чтобы улей наш сегодня был богаче, чем вчера. Чем труднее будет твое восхождение по каменистой тропинке, чем дороже достанется тебе радость труда, тем глубже познаешь ты счастье жизни. Пусть тебе будет трудно — не бойся. Зато ты станешь настоящим Человеком. Желаю тебе крепкого здоровья. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
Этот дворец — не место беззаботной пирушки, а улей, в который надо больше вносить, чем выносить из него; не музейный уникум, а стройка, в которую каждый обязан вложить свой кирпич. Ты стоишь на пороге самостоятельной жизни. Умей увидеть, как сделать, чтобы улей наш сегодня был богаче, чем вчера. Чем труднее будет твое восхождение по каменистой тропинке, чем дороже достанется тебе радость труда, тем глубже познаешь ты счастье жизни. Пусть тебе будет трудно — не бойся. Зато ты станешь настоящим Человеком. Желаю тебе крепкого здоровья. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Ты прав : пустота души начинается с того, что в годы ранней юности человек больше учит, заучивает, чем думает. “Бывает так, что некогда даже задуматься над сущностью научной истины,- пишешь ты,надо учить, учить, учить…” Да, это, к сожалению, так… Но почему ученик и студент не задумывается над сущностью идеи уже в те мгновенья, когда учитель излагает знания? Почему могучая духовная сила — правда наших идей, величие научных истин — почему все это зачастую не доходит до человеческого сердца? Почему нас не удивляет, не тревожит то, что многие уходят от великой правды и красоты наших идей, от эстетических ценностей, от человеческой красоты в пивную, на сомнительные увеселительные вечера — почему? Очеловечивание знаний, одухотворенность преподавания благородными, возвышенными чувствами,-это, на мои взгляд, проблема номер один и в школьном, и в вузовском воспитании.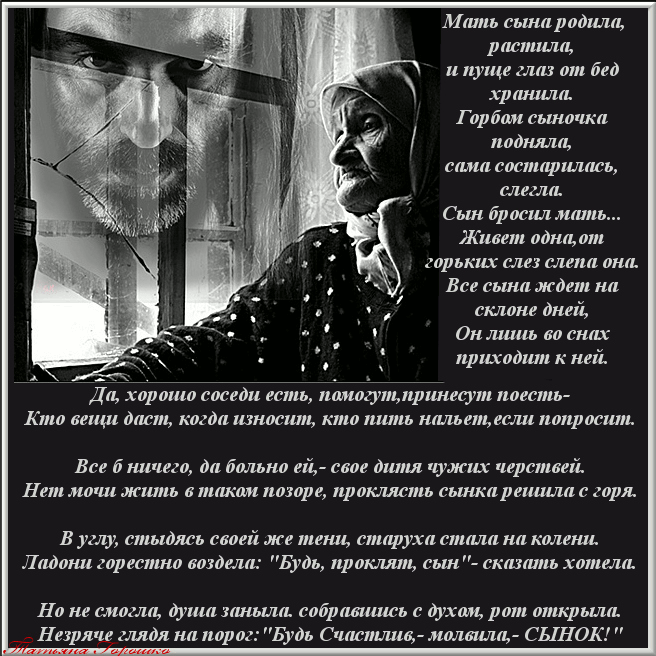 Век математики,-слышишь на каждом шагу, век электроники,-век космоса. Все это неплохие крылатые выражения, но они не отражают всей сущности того, что происходит в наши дни. Мир вступает в век Человека — вот что главное. Совершенно недопустимой, просто глупой является тенденция, почему-то усиленно культивируемая в последнее время: тот, кто не имеет больших математических способностей, считается вроде бы неполноценным, несчастным, обездоленным существом. Ты стремишься стать хорошим инженером это очень важно. Но надо стремиться прежде всего стать человеком — это еще важнее. Больше, чем когда бы то ни было, мы обязаны сейчас думать о том, что мы вкладываем в душу человека. Меня очень тревожит, что с окончанием средней школы для большинства студентов прекращается гуманитарное образование, а в средней школе во многих случаях оно поставлено очень плохо. Я имею в виду широкое гуманитарное воспитание молодежи- воспитание эмоционально-эстетическое, воспитание тонкости и красоты чувств, воспитание впечатлительной натуры, отзывчивого, тонкого сердца.
Век математики,-слышишь на каждом шагу, век электроники,-век космоса. Все это неплохие крылатые выражения, но они не отражают всей сущности того, что происходит в наши дни. Мир вступает в век Человека — вот что главное. Совершенно недопустимой, просто глупой является тенденция, почему-то усиленно культивируемая в последнее время: тот, кто не имеет больших математических способностей, считается вроде бы неполноценным, несчастным, обездоленным существом. Ты стремишься стать хорошим инженером это очень важно. Но надо стремиться прежде всего стать человеком — это еще важнее. Больше, чем когда бы то ни было, мы обязаны сейчас думать о том, что мы вкладываем в душу человека. Меня очень тревожит, что с окончанием средней школы для большинства студентов прекращается гуманитарное образование, а в средней школе во многих случаях оно поставлено очень плохо. Я имею в виду широкое гуманитарное воспитание молодежи- воспитание эмоционально-эстетическое, воспитание тонкости и красоты чувств, воспитание впечатлительной натуры, отзывчивого, тонкого сердца.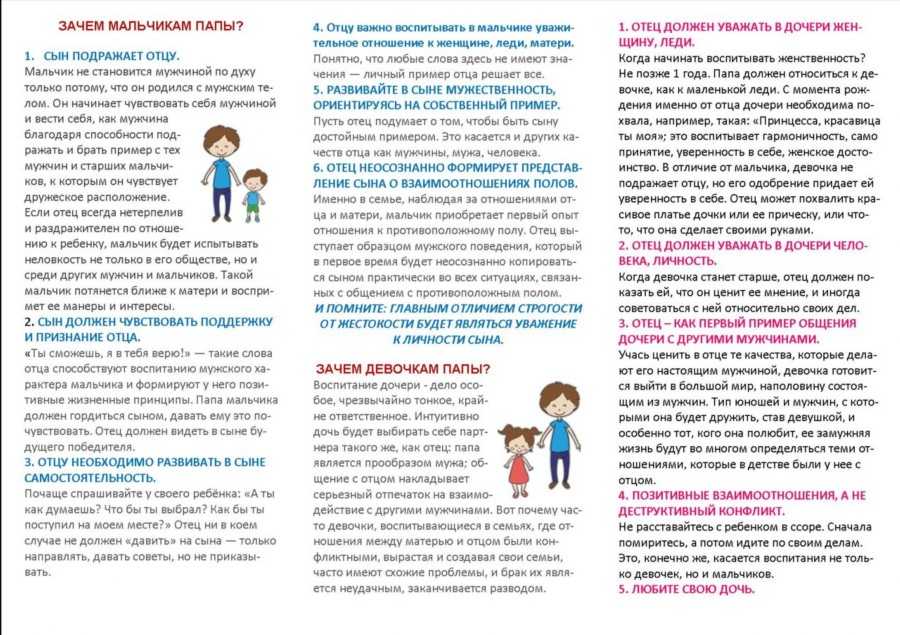 Почему товарищи, с которыми ты живешь, так равнодушны друг к другу, почему им безразлично, что делает и что думает человек, живущий рядом? Почему человек вообще не стал для каждого юноши важнейшим объектом познания, почему именно познание человека не стало для вас, мои юные друзья, самым интересным делом? Все это кроется в примитивности эмоционально-эстетического воспитания. Предотвращать пустоту души, убогость духовных интересов должен не только кто-то, но и сам юноша, каждый из вас. Я уже писал тебе о том, что, слушая лектора, читая книгу или научный журнал, нужно осмысливать, вдумываться в идеи, нужно строить в своем сознании каркас знаний. Коммунистические идеи станут для тебя святыми, священными при том условии, если, познавая мир, ты соотносишь научные истины с самим собою, со своей судьбой, со своей личностью. Вот по диалектическому материализму вы изучаете сейчас познаваемость мира. Казалось бы, это чисто теоретический вопрос, не очень близкий к практике.
Почему товарищи, с которыми ты живешь, так равнодушны друг к другу, почему им безразлично, что делает и что думает человек, живущий рядом? Почему человек вообще не стал для каждого юноши важнейшим объектом познания, почему именно познание человека не стало для вас, мои юные друзья, самым интересным делом? Все это кроется в примитивности эмоционально-эстетического воспитания. Предотвращать пустоту души, убогость духовных интересов должен не только кто-то, но и сам юноша, каждый из вас. Я уже писал тебе о том, что, слушая лектора, читая книгу или научный журнал, нужно осмысливать, вдумываться в идеи, нужно строить в своем сознании каркас знаний. Коммунистические идеи станут для тебя святыми, священными при том условии, если, познавая мир, ты соотносишь научные истины с самим собою, со своей судьбой, со своей личностью. Вот по диалектическому материализму вы изучаете сейчас познаваемость мира. Казалось бы, это чисто теоретический вопрос, не очень близкий к практике.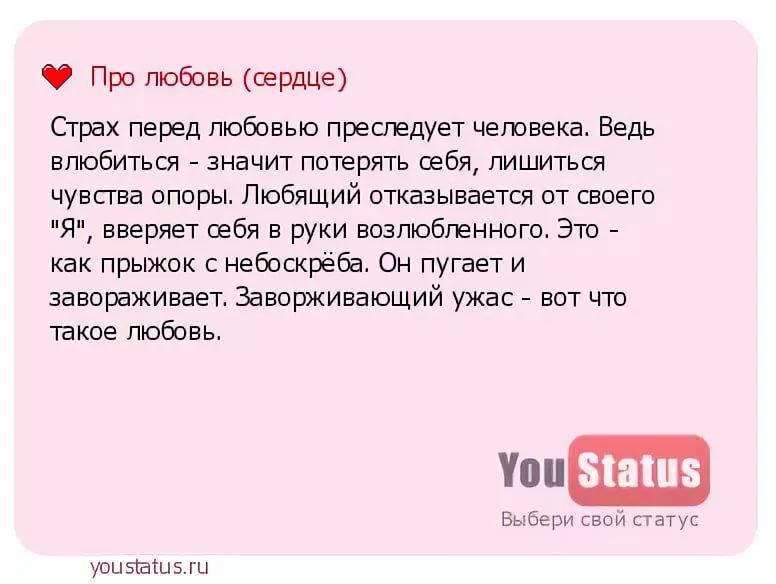 Но в самом деле это самая сущность нашего материального благополучия и полноты духовной жизни. Познание окружающего мира-во имя счастья человека. Слушая лекцию о познаваемости мира, ты думай о своей практической работе, о том, какой вклад своими знаниями, своим трудом ты внесешь в материальную и духовную сокровищницу нашего народа. Думай и о том, какую радость принесет тебе проникновение в тайны природы, познание мира, объяснение непознанного. Намечай себе план самообразования на всю жизнь: ведь через 10–15 лет после окончания вуза добрую половину научных знаний будет составлять совершенно новое,- то, что ты не изучал. И гуманитарное, человечное воспитание — это тоже процесс самовоспитания. Воспитывай в себе Человека — вот что самое главное. Инженером можно стать за 5 лет, учиться же на человека надо всю жизнь. Воспитывай в себе человеческую душу. Самое главное средство самовоспитания души — красота.
Но в самом деле это самая сущность нашего материального благополучия и полноты духовной жизни. Познание окружающего мира-во имя счастья человека. Слушая лекцию о познаваемости мира, ты думай о своей практической работе, о том, какой вклад своими знаниями, своим трудом ты внесешь в материальную и духовную сокровищницу нашего народа. Думай и о том, какую радость принесет тебе проникновение в тайны природы, познание мира, объяснение непознанного. Намечай себе план самообразования на всю жизнь: ведь через 10–15 лет после окончания вуза добрую половину научных знаний будет составлять совершенно новое,- то, что ты не изучал. И гуманитарное, человечное воспитание — это тоже процесс самовоспитания. Воспитывай в себе Человека — вот что самое главное. Инженером можно стать за 5 лет, учиться же на человека надо всю жизнь. Воспитывай в себе человеческую душу. Самое главное средство самовоспитания души — красота. Красота в широком смысле — и искусство, и музыка, и сердечные отношения с людьми. Об этом нам надо будет еще много, очень много говорить. Я спешу сейчас: заканчиваю подготовку к печати рукописи о системе учебно-воспитательной работы в школе. Обнимаю и целую тебя. Желаю крепкого здоровья и бодрого духа. Твой отец.
Красота в широком смысле — и искусство, и музыка, и сердечные отношения с людьми. Об этом нам надо будет еще много, очень много говорить. Я спешу сейчас: заканчиваю подготовку к печати рукописи о системе учебно-воспитательной работы в школе. Обнимаю и целую тебя. Желаю крепкого здоровья и бодрого духа. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Спасибо за сердечное, хотя и немного сумбурное письмо. Я рад тому, что оно сердечное, и тому, что оно сумбурное. Иначе, наверное, и быть не может: ты стремишься сказать все, что волнует тебя. Итак, в самовоспитании ты считаешь самым важным самодисциплину: умей заставить себя работать, ставить цель и достигать ее… Волевой аспект, конечно, главный в самовоспитании. Но мне кажется, что воля — итог самовоспитания. А сущность его глубже. Самовоспитание начинается с самопознания. Самое сложное и самое трудное в жизни молодого человека — увидеть себя как бы со стороны, увидеть в свете идеального, героического. Советую тебе: читай побольше о людях, достигших вершины человеческой красоты. Есть и в наши дни люди, жизнь которых — как подвиг Данко. Прочитай маленькую книжечку о Михаиле Паникахо двадцатилетнем комсомольце с Днепропетровщины, который в боях за Сталинград сжег фашистский танк и сам погиб в огне,- и ты увидишь мир вокруг себя и самого себя глазами гражданина. Когда он готовился бросить бутылку с зажигательной жидкостью на приближающийся фашистский танк, пуля разбила бутылку, одежда на нем вспыхнула, он, как горящий факел, бросился на танк и поджег его собой, своим горящим телом. Даже фашистские солдаты прекратили огонь, изумленные этим подвигом. Михаила Паникахо назвали Данко Волжской Твердыни. Что есть в мире, что может сравниться с этим подвигом? Он затмевает подвиг спартанских воинов, героев Фермопил. Если ты увидишь этот живой факел самопожертвования во имя Родины,- а не увидеть его невозможно,он осветит все в твоей душе, поможет тебе увидеть в своей душе самые сокровенные уголки.
Советую тебе: читай побольше о людях, достигших вершины человеческой красоты. Есть и в наши дни люди, жизнь которых — как подвиг Данко. Прочитай маленькую книжечку о Михаиле Паникахо двадцатилетнем комсомольце с Днепропетровщины, который в боях за Сталинград сжег фашистский танк и сам погиб в огне,- и ты увидишь мир вокруг себя и самого себя глазами гражданина. Когда он готовился бросить бутылку с зажигательной жидкостью на приближающийся фашистский танк, пуля разбила бутылку, одежда на нем вспыхнула, он, как горящий факел, бросился на танк и поджег его собой, своим горящим телом. Даже фашистские солдаты прекратили огонь, изумленные этим подвигом. Михаила Паникахо назвали Данко Волжской Твердыни. Что есть в мире, что может сравниться с этим подвигом? Он затмевает подвиг спартанских воинов, героев Фермопил. Если ты увидишь этот живой факел самопожертвования во имя Родины,- а не увидеть его невозможно,он осветит все в твоей душе, поможет тебе увидеть в своей душе самые сокровенные уголки.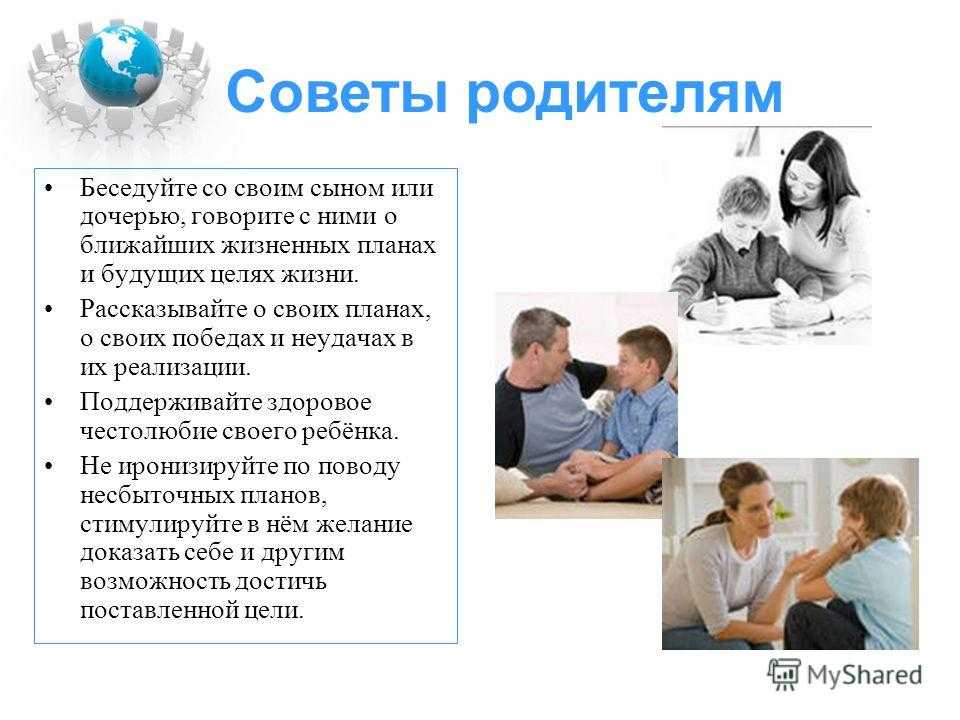 В эти мгновенья тебе захочется быть нравственно красивым, захочется что-то сделать для Родины, захочется приобщиться к великому, возвышенному. Создавай такие мгновенья — вот что очень важно. Береги сам в себе высокий нравственный накал этих мгновений. В свете возвышенного и героического ты в конце концов поставишь себе вопрос: — Кто я такой? Во имя чего я живу на свете? Способен ли я на подвиг? Прочитай маленькую книжечку о сибирском комбайнере Прокопии Нектове. На войне он лишился обеих ног. До войны работал комбайнером в колхозе. Возвратился из госпиталя, затосковал. Чувствовал, что становится в тягость семье. И вот “Повесть о настоящем человеке” Б. Полевого научила его жить. Он нашел в себе силу воли и мужество научиться ходить на протезах, а потом и сесть за штурвал комбайна. За отличный труд правительство присвоило ему высокое звание Героя Социалистического Труда. На Одесской сельскохозяйственной опытной станции работает Иван Лукич Молдавский.
В эти мгновенья тебе захочется быть нравственно красивым, захочется что-то сделать для Родины, захочется приобщиться к великому, возвышенному. Создавай такие мгновенья — вот что очень важно. Береги сам в себе высокий нравственный накал этих мгновений. В свете возвышенного и героического ты в конце концов поставишь себе вопрос: — Кто я такой? Во имя чего я живу на свете? Способен ли я на подвиг? Прочитай маленькую книжечку о сибирском комбайнере Прокопии Нектове. На войне он лишился обеих ног. До войны работал комбайнером в колхозе. Возвратился из госпиталя, затосковал. Чувствовал, что становится в тягость семье. И вот “Повесть о настоящем человеке” Б. Полевого научила его жить. Он нашел в себе силу воли и мужество научиться ходить на протезах, а потом и сесть за штурвал комбайна. За отличный труд правительство присвоило ему высокое звание Героя Социалистического Труда. На Одесской сельскохозяйственной опытной станции работает Иван Лукич Молдавский. На фронте он был тяжело ранен, и врачи ампутировали ему обе руки, левая нога у него была сильно искалечена и не сгибалась. И вот этот человек окончил сельскохозяйственный институт, работает агрономом. Таких людей я знаю восемнадцать. В селе Петропавловке Харьковской области (это совсем недалеко от нас) живет Григорий Никифорович Змиенко, тракторист. Через несколько лет после войны его трактор подорвался на мине, Григорий остался без ног. Так же, как и Прокопий Нектов, он нашел в себе силу воли возвратиться в строй. Если описать жизнь всех этих изумительных людей, получится хрестоматия мужества, учебник жизни для юношества. Это было бы самое сильное, самое действенное пособие по самовоспитанию для молодых людей. А пока еще такой книги нет-читай маленькие книжечки, посвященные жизни настоящих людей. Помнишь, я летом обещал рассказать о подвиге советского воина Алексея Бетюка. При выполнении боевого задания он был схвачен фашистами.
На фронте он был тяжело ранен, и врачи ампутировали ему обе руки, левая нога у него была сильно искалечена и не сгибалась. И вот этот человек окончил сельскохозяйственный институт, работает агрономом. Таких людей я знаю восемнадцать. В селе Петропавловке Харьковской области (это совсем недалеко от нас) живет Григорий Никифорович Змиенко, тракторист. Через несколько лет после войны его трактор подорвался на мине, Григорий остался без ног. Так же, как и Прокопий Нектов, он нашел в себе силу воли возвратиться в строй. Если описать жизнь всех этих изумительных людей, получится хрестоматия мужества, учебник жизни для юношества. Это было бы самое сильное, самое действенное пособие по самовоспитанию для молодых людей. А пока еще такой книги нет-читай маленькие книжечки, посвященные жизни настоящих людей. Помнишь, я летом обещал рассказать о подвиге советского воина Алексея Бетюка. При выполнении боевого задания он был схвачен фашистами.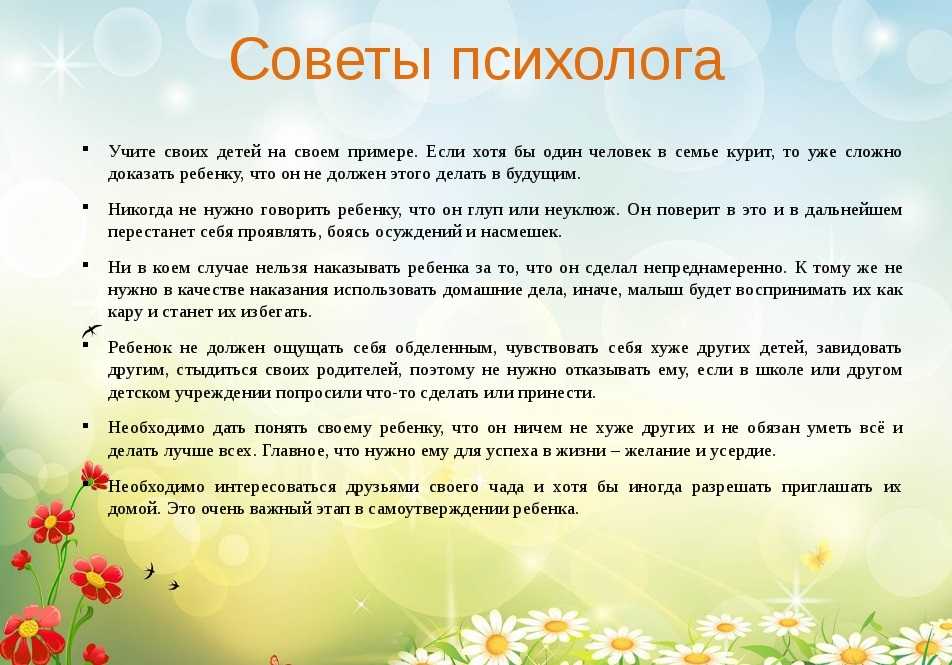 Его привели к офицеру. На все вопросы Алексей отвечал “нет”, “не знаю”. Тогда один из гитлеровцев отрезал левое ухо у Алексея. Бетюк вздрогнул, но не проронил ни слова. Палачи отрезали второе ухо. Ни обещания сохранить жизнь, ни угроза расстрелять не поколебали мужественного советского бойца. Фашисты придумали новое мучение. Ему разжали рот, вытянули язык и прибили его гвоздем к столу. Один из палачей медленно водил кинжалом по языку. Ничего не добившись, варвары отрезали Бетюку язык. А поздно вечером гитлеровцы вывели Бетюка к реке, приказали бежать и открыли огонь в спину. Алексей упал в воду, и это спасло его. Превозмогая адскую боль, он вышел к переднему краю, был подобран нашими бойцами и доставлен в госпиталь. (Подвиг А. Бетюка описан в “Известиях”, 20/VII. 1964 г.). Я видел Алексея Бетюка в госпитале. Мы лежали с ним почти рядом. Вот тебе еще один яркий взлет человека к вершине нравственной красоты. Десятки советских воинов совершили такой же подвиг, но, к сожалению, о них нет книги.
Его привели к офицеру. На все вопросы Алексей отвечал “нет”, “не знаю”. Тогда один из гитлеровцев отрезал левое ухо у Алексея. Бетюк вздрогнул, но не проронил ни слова. Палачи отрезали второе ухо. Ни обещания сохранить жизнь, ни угроза расстрелять не поколебали мужественного советского бойца. Фашисты придумали новое мучение. Ему разжали рот, вытянули язык и прибили его гвоздем к столу. Один из палачей медленно водил кинжалом по языку. Ничего не добившись, варвары отрезали Бетюку язык. А поздно вечером гитлеровцы вывели Бетюка к реке, приказали бежать и открыли огонь в спину. Алексей упал в воду, и это спасло его. Превозмогая адскую боль, он вышел к переднему краю, был подобран нашими бойцами и доставлен в госпиталь. (Подвиг А. Бетюка описан в “Известиях”, 20/VII. 1964 г.). Я видел Алексея Бетюка в госпитале. Мы лежали с ним почти рядом. Вот тебе еще один яркий взлет человека к вершине нравственной красоты. Десятки советских воинов совершили такой же подвиг, но, к сожалению, о них нет книги.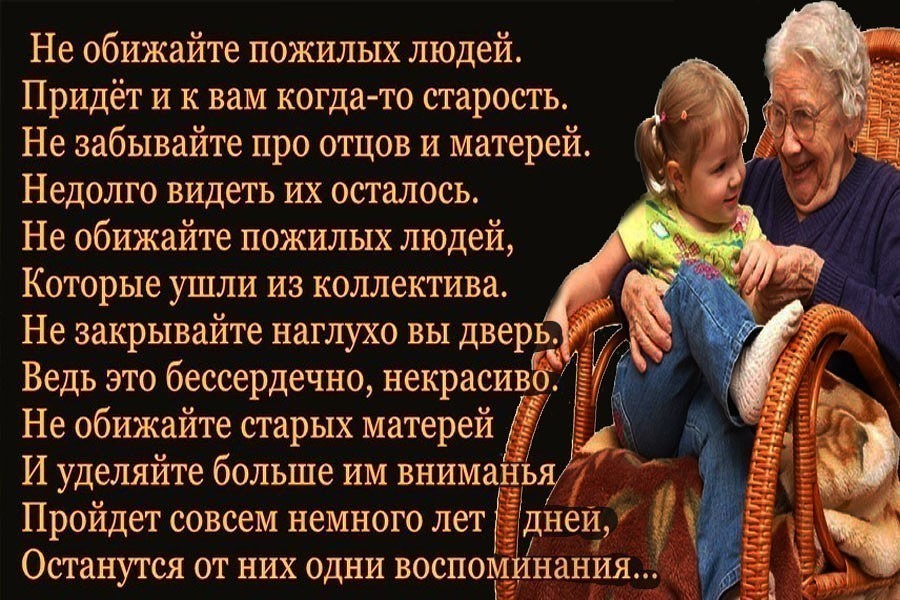 Верю, что эта книга будет. Она станет незаменимым пособием по самовоспитанию духа. Вдумайся в подвиг Алексея Бетюка, сын. При ярком свете этого героического подвига загляни в свою душу. К такому подвигу должен быть готов каждый советский юноша. Ты будешь солдатом, защитником Родины, знай, что в любую минуту ты должен быть готовым сражаться за свободу и независимость Отечества. Если запылает пожар войны, от тебя, как и от каждого советского воина, потребуется огромная стойкость, сила духа, мужество, самопожертвование. Знай, что в жизни нашей есть вещи ни с чем не сравнимые и не сопоставимые. Это Родина, родной народ, наше любимое Отечество. Без любого из нас Родина может обойтись, но любой из нас без Родины — ничто. Самовоспитание — это прежде всего воспитание в самом себе мужественного патриота. Вот теперь надо возвратиться к твоему письму, в котором ты писал о страшном преступлении, совершенном молодыми людьми.
Верю, что эта книга будет. Она станет незаменимым пособием по самовоспитанию духа. Вдумайся в подвиг Алексея Бетюка, сын. При ярком свете этого героического подвига загляни в свою душу. К такому подвигу должен быть готов каждый советский юноша. Ты будешь солдатом, защитником Родины, знай, что в любую минуту ты должен быть готовым сражаться за свободу и независимость Отечества. Если запылает пожар войны, от тебя, как и от каждого советского воина, потребуется огромная стойкость, сила духа, мужество, самопожертвование. Знай, что в жизни нашей есть вещи ни с чем не сравнимые и не сопоставимые. Это Родина, родной народ, наше любимое Отечество. Без любого из нас Родина может обойтись, но любой из нас без Родины — ничто. Самовоспитание — это прежде всего воспитание в самом себе мужественного патриота. Вот теперь надо возвратиться к твоему письму, в котором ты писал о страшном преступлении, совершенном молодыми людьми. Их душа пуста и убога, примитивна и ограничена прежде всего потому, что в ней нет важнейшего стержня человечности — любви к Родине. Это самое чистое и самое тонкое, самое возвышенное и самое сильное, самое нежное и самое беспощадное, самое ласковое и самое грозное чувство. Тот, кто по-настоящему любит Родину,- во всех отношениях настоящий человек… Оттачивай, шлифуй в себе человечность. Прежде всего доводи до большего совершенства чувствительность к неправде, злу, обману, унижению человеческого достоинства. Здесь большое значение имеет не только осознание, а прежде всего чутье. Вот на твоих глазах человек оскорбляет человека. Если закрыть глаза на это, может, и маленькое событие, то вскоре ты будешь закрывать глаза на все. Надо оттачивать чувствительность души, утонченность чувств. Красота оттачивает человечность. Если человек с детства воспитывается на красоте, прежде всего на хороших книгах, если у него развивается способность к переживаниям, чувство умиления, восторга перед красотой,- то маловероятно, чтобы он стал бессердечным, пошляком, развратником.
Их душа пуста и убога, примитивна и ограничена прежде всего потому, что в ней нет важнейшего стержня человечности — любви к Родине. Это самое чистое и самое тонкое, самое возвышенное и самое сильное, самое нежное и самое беспощадное, самое ласковое и самое грозное чувство. Тот, кто по-настоящему любит Родину,- во всех отношениях настоящий человек… Оттачивай, шлифуй в себе человечность. Прежде всего доводи до большего совершенства чувствительность к неправде, злу, обману, унижению человеческого достоинства. Здесь большое значение имеет не только осознание, а прежде всего чутье. Вот на твоих глазах человек оскорбляет человека. Если закрыть глаза на это, может, и маленькое событие, то вскоре ты будешь закрывать глаза на все. Надо оттачивать чувствительность души, утонченность чувств. Красота оттачивает человечность. Если человек с детства воспитывается на красоте, прежде всего на хороших книгах, если у него развивается способность к переживаниям, чувство умиления, восторга перед красотой,- то маловероятно, чтобы он стал бессердечным, пошляком, развратником.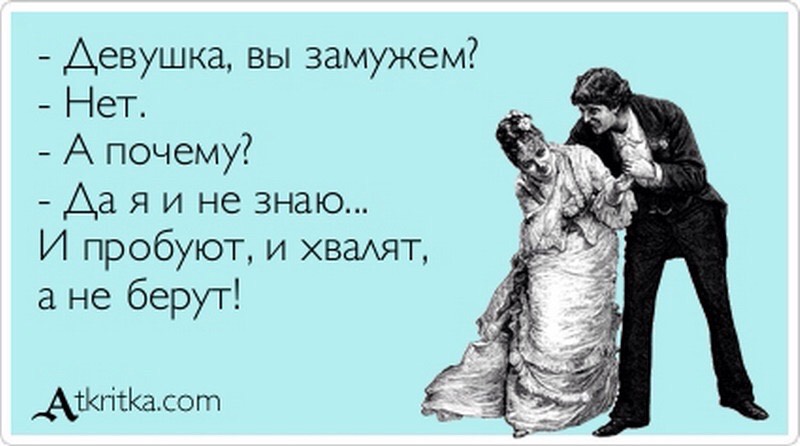 Красота, прежде всего художественные ценности, воспитывает тонкость натуры, а чем тоньше натура, тем острее человек воспринимает мир и тем больше может дать мир у… Вот меня и тревожит есть ли в твоей жизни это повседневное общение с красотой? В общежитии я почти не видел у вас художественной литературы. На твоей полке стояли две книги: “Дневные звезды” Ольги Берггольц и “Водоворот” Г. Тютюнника. Хорошие книги, мне стало очень радостно, когда я увидел их: время не будет затрачено впустую. Книги — океан, и среди этого океана хорошие книги — как маленькие, отдаленные друг от друга островки; сумей побывать на каждом из них… В этом океане легко заблудиться и попасть на мель… Как огня, опасайся низкопробного чтива. Есть книги, которые человеку надо прочитать за всю жизнь несколько раз, и каждое новое чтение будет открывать перед ним все новые и новые грани красоты и души человеческой. Несколько раз я прочитал “Воскресенье” Л.
Красота, прежде всего художественные ценности, воспитывает тонкость натуры, а чем тоньше натура, тем острее человек воспринимает мир и тем больше может дать мир у… Вот меня и тревожит есть ли в твоей жизни это повседневное общение с красотой? В общежитии я почти не видел у вас художественной литературы. На твоей полке стояли две книги: “Дневные звезды” Ольги Берггольц и “Водоворот” Г. Тютюнника. Хорошие книги, мне стало очень радостно, когда я увидел их: время не будет затрачено впустую. Книги — океан, и среди этого океана хорошие книги — как маленькие, отдаленные друг от друга островки; сумей побывать на каждом из них… В этом океане легко заблудиться и попасть на мель… Как огня, опасайся низкопробного чтива. Есть книги, которые человеку надо прочитать за всю жизнь несколько раз, и каждое новое чтение будет открывать перед ним все новые и новые грани красоты и души человеческой. Несколько раз я прочитал “Воскресенье” Л.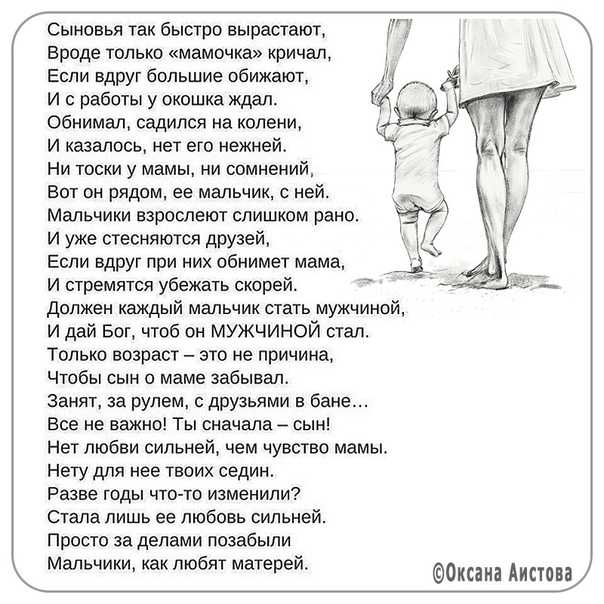 Н. Толстого, “Идиот”, “Преступление и наказание” Ф. М. Достоевского, “Божественную комедию” Данте, “Гамлет” Шекспира. Одно дело читать эти произведения в 16-летнем возрасте, другое дело‑в 20-летнем, совсем по-другому воспринимаются эти произведения в 30-летнем возрасте. Ты убедишься в этом на собственном опыте; с каждым годом круг любимых книг у тебя будет все уже, но зато это будут действительно заслуживающие любви книги. Вот и тебе я советую начинать сейчас перечитывать то, что ты прочитал еще в стенах школы. Это так же необходимо для оттачивания чувств, как повторное слушание прекрасной музыки. Ведь слушаем же мы десятки раз “Лебединое озеро”, ведь не надоедает же нам никогда эта чудесная музыка. Повторное чтение бессмертных творений литературы-это прежде всего познание человеком самого себя. Читаешь пятый, шестой, седьмой раз “Степь” Чехова, его изумительные новеллы, и хочется стать лучше, чем ты есть.
Н. Толстого, “Идиот”, “Преступление и наказание” Ф. М. Достоевского, “Божественную комедию” Данте, “Гамлет” Шекспира. Одно дело читать эти произведения в 16-летнем возрасте, другое дело‑в 20-летнем, совсем по-другому воспринимаются эти произведения в 30-летнем возрасте. Ты убедишься в этом на собственном опыте; с каждым годом круг любимых книг у тебя будет все уже, но зато это будут действительно заслуживающие любви книги. Вот и тебе я советую начинать сейчас перечитывать то, что ты прочитал еще в стенах школы. Это так же необходимо для оттачивания чувств, как повторное слушание прекрасной музыки. Ведь слушаем же мы десятки раз “Лебединое озеро”, ведь не надоедает же нам никогда эта чудесная музыка. Повторное чтение бессмертных творений литературы-это прежде всего познание человеком самого себя. Читаешь пятый, шестой, седьмой раз “Степь” Чехова, его изумительные новеллы, и хочется стать лучше, чем ты есть.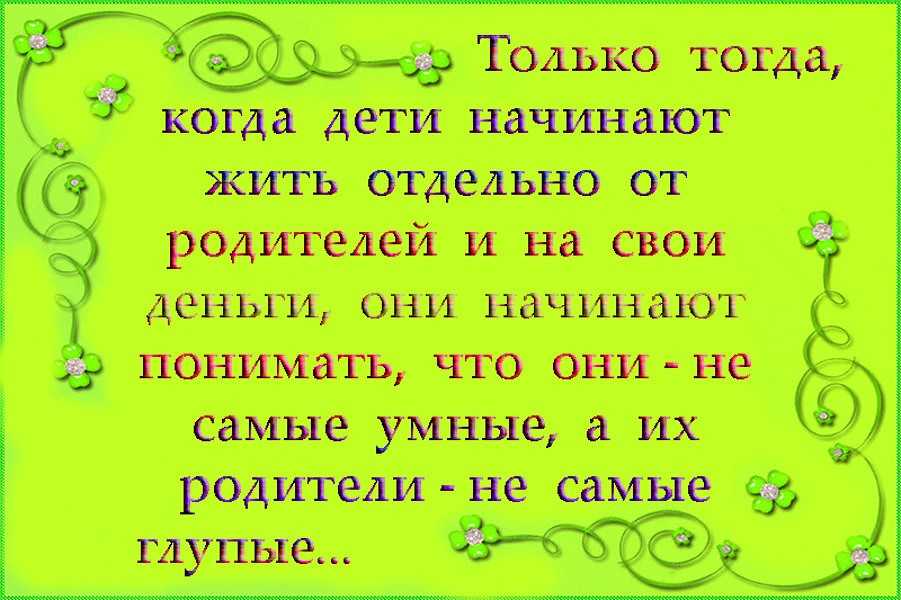 А произведения В. Короленко, А. Куприна, М. Пришвина, К. Паустовского. Я не могу прожить месяц, чтобы не прочитать что-нибудь из произведений этих художников слова. Читай современных русских и украинских писателей. Советую тебе читать все, что выходит нз-под пера таких романистов и поэтов, как К. Симонов, В. Солоухин, А. Твардовский, О. Берггольц, С. Щипачев, И. Сельвинский, А. Калинин, П. Нилин, В. Тендряков, Л. Мартынов, М. Стельмах, О. Гончар… Перечитывай такие книги, как “Всадники” Ю. Яновского, “Седьмой крест” А. Зегерс, “Земля людей” А. Сент-Экзюпери, “Старик и море” Э. Хемингуэя. Помни, что книги — это тысячелетняя мудрость человека. Читая в первый раз хорошую книгу, писал Вольтер, мы испытываем то же чувство, которое переживаем, приобретя нового друга [10]. Вновь прочитать уже читанную книгу-значит вновь увидеть старого друга. Пусть побольше будет у тебя старых, добрых друзей. Чтение книги — это не механический процесс.
А произведения В. Короленко, А. Куприна, М. Пришвина, К. Паустовского. Я не могу прожить месяц, чтобы не прочитать что-нибудь из произведений этих художников слова. Читай современных русских и украинских писателей. Советую тебе читать все, что выходит нз-под пера таких романистов и поэтов, как К. Симонов, В. Солоухин, А. Твардовский, О. Берггольц, С. Щипачев, И. Сельвинский, А. Калинин, П. Нилин, В. Тендряков, Л. Мартынов, М. Стельмах, О. Гончар… Перечитывай такие книги, как “Всадники” Ю. Яновского, “Седьмой крест” А. Зегерс, “Земля людей” А. Сент-Экзюпери, “Старик и море” Э. Хемингуэя. Помни, что книги — это тысячелетняя мудрость человека. Читая в первый раз хорошую книгу, писал Вольтер, мы испытываем то же чувство, которое переживаем, приобретя нового друга [10]. Вновь прочитать уже читанную книгу-значит вновь увидеть старого друга. Пусть побольше будет у тебя старых, добрых друзей. Чтение книги — это не механический процесс. Это творчество. Учись читая воспитывать себя, думать, рассуждать. Прости за то, что мое письмо получилось слишком пространным. Но и проблема эта неисчерпаема — самовоспитание. Желаю тебе крепкого здоровья и доброго духа. Обнимаю и целую тебя.
Это творчество. Учись читая воспитывать себя, думать, рассуждать. Прости за то, что мое письмо получилось слишком пространным. Но и проблема эта неисчерпаема — самовоспитание. Желаю тебе крепкого здоровья и доброго духа. Обнимаю и целую тебя.
Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Я очень рад, что письмо о самовоспитании вызвало у тебя такой большой интерес. Ты очень тонко подметил одну черту современного молодого человека (да и не только молодого) — большую, иногда болезненную нервную возбудимость. Я уверен, что многие конфликты, нередко ссоры между людьми бывают потому, что люди не умеют управлять своими чувствами и, что еще хуже, совершенно не занимаются самовоспитанием чувства.
А воспитывать у себя эмоциональную сферу — это в наше время вопрос очень серьезный, особенно для молодежи. В течение тысячелетий жизнь человека в основном определялась мышечной силой и такими грубыми свойствами нервной системы, как упрямство, жестокость.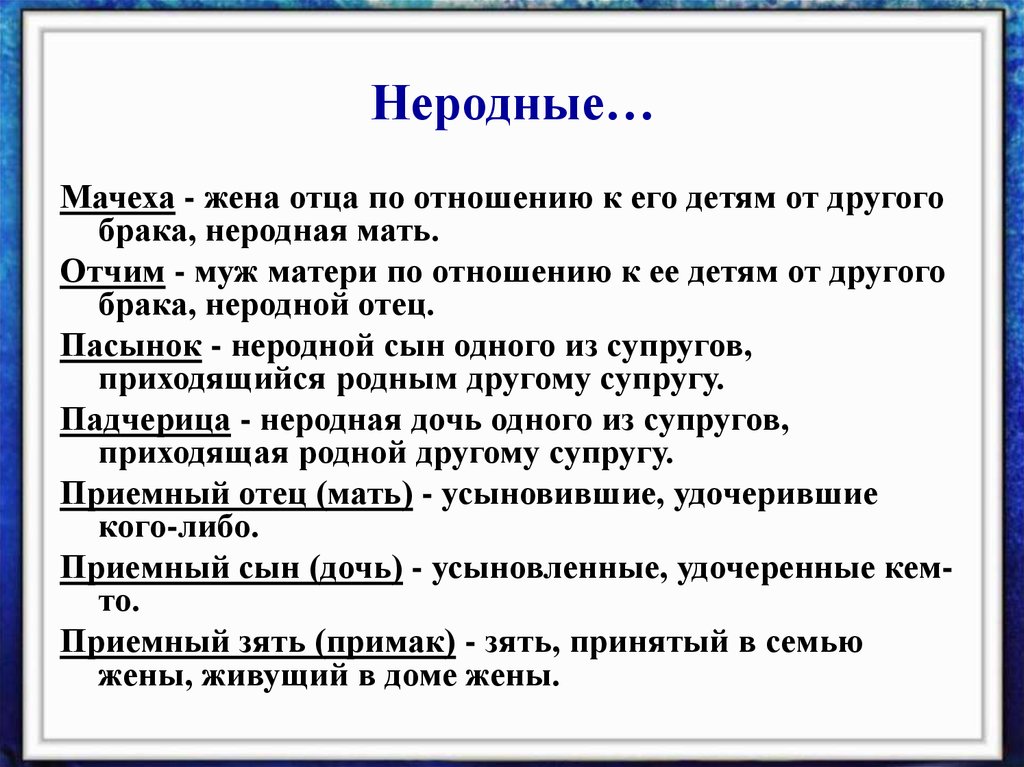 Самое главное, что надо помнить каждому молодому человеку, не восполнять убогость мысли грубыми чувствами, выражающимися в крике, ожесточенности, свирепости. Где-то в глубине человеческой психики, в подсознании дремлют инстинкты — животный страх, свирепость, жестокость. Чем меньше у человека культуры, чем беднее его умственные, эстетические интересы, тем чаще просыпаются инстинкты и дают о себе знать грубостью. Когда человеку нечего больше говорить в доказательство своей правоты, он или прямо говорит, что не может больше ничего доказать (так делают люди высокой эмоциональной и интеллектуальной культуры), или же начинает кричать, т. е. восполняет убогость мысли “бунтом инстинктов”. Надо щадить нервную, эмоциональную сферу — ну себя и у других людей. Помни, что источник тонкости чувств, необходимой сейчас человеку как воздух,- в тонкости мыслей, в богатстве интеллекта. Чувство облагораживает мысль, но подлинно человеческое чувство ке может существовать без мысли — из мысли оно рождается, мысль его питает, мыслью оно живет.
Самое главное, что надо помнить каждому молодому человеку, не восполнять убогость мысли грубыми чувствами, выражающимися в крике, ожесточенности, свирепости. Где-то в глубине человеческой психики, в подсознании дремлют инстинкты — животный страх, свирепость, жестокость. Чем меньше у человека культуры, чем беднее его умственные, эстетические интересы, тем чаще просыпаются инстинкты и дают о себе знать грубостью. Когда человеку нечего больше говорить в доказательство своей правоты, он или прямо говорит, что не может больше ничего доказать (так делают люди высокой эмоциональной и интеллектуальной культуры), или же начинает кричать, т. е. восполняет убогость мысли “бунтом инстинктов”. Надо щадить нервную, эмоциональную сферу — ну себя и у других людей. Помни, что источник тонкости чувств, необходимой сейчас человеку как воздух,- в тонкости мыслей, в богатстве интеллекта. Чувство облагораживает мысль, но подлинно человеческое чувство ке может существовать без мысли — из мысли оно рождается, мысль его питает, мыслью оно живет. Благодаря богатству мысли оно, человеческое чувство, становится самостоятельной силой духовного мира человека,- оно способно побудить человека на благородные поступки. Как воспитывать в себе утонченность чувств? Прежде всего — никогда не забывай, что ты живешь среди людей. Никогда не забывай, что рядом с тобой трудится человек, у которого свои заботы, тревоги, мысли, переживания. Уметь уважать человеческое в каждом, кто живет и трудится рядом с тобой,- это, пожалуй, самое большое человеческое мастерство. Тонкость чувств воспитывается только в коллективе, только благодаря постоянному духовному общению с людьми, окружающими тебя. На чем же оттачивать, “шлифовать” чувства, как не на задушевной дружбе, богатой интеллектуальными, эстетическими интересами? Воспитывай свои чувства в дружбе. Дружба поможет тебе выработать тонкую чувствительность к человеческому в каждом, кто тебя окружает. Но что необходимо для настоящей дружбы, духовно обогащающей человека, помогающей ему подавлять в себе инстинктивное и развивать человеческое? Необходимо твое личное духовное богатство.
Благодаря богатству мысли оно, человеческое чувство, становится самостоятельной силой духовного мира человека,- оно способно побудить человека на благородные поступки. Как воспитывать в себе утонченность чувств? Прежде всего — никогда не забывай, что ты живешь среди людей. Никогда не забывай, что рядом с тобой трудится человек, у которого свои заботы, тревоги, мысли, переживания. Уметь уважать человеческое в каждом, кто живет и трудится рядом с тобой,- это, пожалуй, самое большое человеческое мастерство. Тонкость чувств воспитывается только в коллективе, только благодаря постоянному духовному общению с людьми, окружающими тебя. На чем же оттачивать, “шлифовать” чувства, как не на задушевной дружбе, богатой интеллектуальными, эстетическими интересами? Воспитывай свои чувства в дружбе. Дружба поможет тебе выработать тонкую чувствительность к человеческому в каждом, кто тебя окружает. Но что необходимо для настоящей дружбы, духовно обогащающей человека, помогающей ему подавлять в себе инстинктивное и развивать человеческое? Необходимо твое личное духовное богатство. Ты будешь обогащаться духовно лишь тогда, когда будешь что-то отдавать своему другу. Конечно, через несколько месяцев после создания нового коллектива трудно требовать, чтобы у тебя уже был друг. Но все же должно наступить то время, когда он у тебя появится. Друг, с которым ты будешь делиться своими мыслями, чувствами, радостями и огорчениями. Если бы у меня была возможность сейчас приехать к тебе, я бы приехал, собрал твоих товарищей по комнате, пригласил бы и других студентов и сказал им: “Юные мои друзья, щадите сердце и воспитывайте чувства. Помните, что в наше время человек становится с каждым годом все более чувствительным к воздействиям из окружающего мира. В идее “человек человеку друг, товарищ и брат” заключен глубокий смысл. Но эта глубина далеко не всегда понимается. Быть другом-это значит прежде всего воспитывать человека, утверждать в нем человеческое”. Воспитание в сущности в том и заключается, чтобы подавлять в себе животные инстинкты и развивать все человеческое.
Ты будешь обогащаться духовно лишь тогда, когда будешь что-то отдавать своему другу. Конечно, через несколько месяцев после создания нового коллектива трудно требовать, чтобы у тебя уже был друг. Но все же должно наступить то время, когда он у тебя появится. Друг, с которым ты будешь делиться своими мыслями, чувствами, радостями и огорчениями. Если бы у меня была возможность сейчас приехать к тебе, я бы приехал, собрал твоих товарищей по комнате, пригласил бы и других студентов и сказал им: “Юные мои друзья, щадите сердце и воспитывайте чувства. Помните, что в наше время человек становится с каждым годом все более чувствительным к воздействиям из окружающего мира. В идее “человек человеку друг, товарищ и брат” заключен глубокий смысл. Но эта глубина далеко не всегда понимается. Быть другом-это значит прежде всего воспитывать человека, утверждать в нем человеческое”. Воспитание в сущности в том и заключается, чтобы подавлять в себе животные инстинкты и развивать все человеческое. Вершиной человечности является коммунистическое воспитание. Зверские инстинкты — отсутствие жалости ко всему живому и красивому, абсолютное равнодушие к духовному миру другого человека — лежат и в основе психики любого убийцы, насильника. Надо воспитывать, культивировать в себе жалость ко всему живому и прекрасному. У тебя будут дети, помни: от того, как маленький ребенок относится к птицам, цветам, деревьям, зависит его нравственность, его отношение к людям. Посылаю тебе книгу -“Избранное” А. Сент-Экзюпери. Хотел бы, чтобы ты внимательно прочитал сказку “Маленький принц” и подумал над нею. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
Вершиной человечности является коммунистическое воспитание. Зверские инстинкты — отсутствие жалости ко всему живому и красивому, абсолютное равнодушие к духовному миру другого человека — лежат и в основе психики любого убийцы, насильника. Надо воспитывать, культивировать в себе жалость ко всему живому и прекрасному. У тебя будут дети, помни: от того, как маленький ребенок относится к птицам, цветам, деревьям, зависит его нравственность, его отношение к людям. Посылаю тебе книгу -“Избранное” А. Сент-Экзюпери. Хотел бы, чтобы ты внимательно прочитал сказку “Маленький принц” и подумал над нею. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Твое письмо очень обрадовало меня (хотя ты долго не писал, почти две недели). Хорошо, что в вашем коллективе пробуждаются интеллектуальные интересы, что вы начинаете споры, да еще по такому вопросу: свобода и долг. Ты приглашаешь меня принять участие в вашем споре, что же, с радостью делаю это. Ты пишешь, что кое-кто из твоих товарищей придерживается такого мнения: в некоторых сферах деятельности (“в вопросах личной жизни”, твоими словами человек абсолютно свободен (?), в других же сферах его свобода ограничена требованиями общества. Ты не согласен с этой точкой зрения и я поддерживаю тебя. Твоя точка зрения (“быть свободным — значит всегда уметь поступать правильно — так, как требуют интересы народа”) по существу повторяет известные слова Маркса: Таким образом, свобода воли означает не что иное, как способность принимать решения со знанием дела[11]. Молодые люди стремятся самую сложную мысль выражать своими словами, и это очень хорошо. Абсолютной свободы нет и не может быть. Ведь человек живет среди людей. В. И. Ленин учит, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя [12]. А кое-кто из твоих оппонентов разделяет жизнь перегородкой: по одну сторонку — то, что человек может делать, оглядываясь на общество, по другую сторону — то, что он волен делать, абсолютно не думая о людях.
Ты приглашаешь меня принять участие в вашем споре, что же, с радостью делаю это. Ты пишешь, что кое-кто из твоих товарищей придерживается такого мнения: в некоторых сферах деятельности (“в вопросах личной жизни”, твоими словами человек абсолютно свободен (?), в других же сферах его свобода ограничена требованиями общества. Ты не согласен с этой точкой зрения и я поддерживаю тебя. Твоя точка зрения (“быть свободным — значит всегда уметь поступать правильно — так, как требуют интересы народа”) по существу повторяет известные слова Маркса: Таким образом, свобода воли означает не что иное, как способность принимать решения со знанием дела[11]. Молодые люди стремятся самую сложную мысль выражать своими словами, и это очень хорошо. Абсолютной свободы нет и не может быть. Ведь человек живет среди людей. В. И. Ленин учит, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя [12]. А кое-кто из твоих оппонентов разделяет жизнь перегородкой: по одну сторонку — то, что человек может делать, оглядываясь на общество, по другую сторону — то, что он волен делать, абсолютно не думая о людях.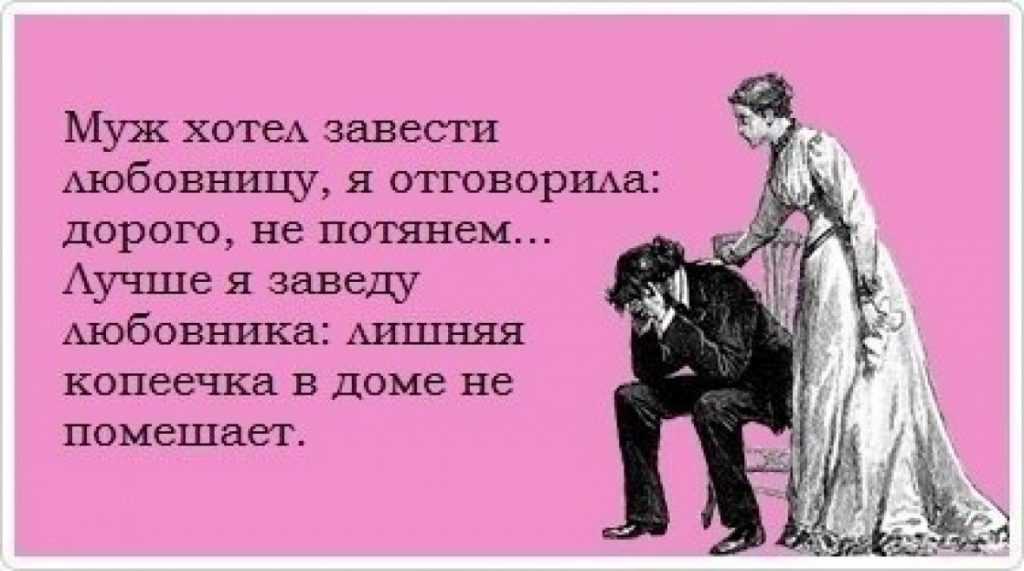 Такое деление по существу лежит в основе философии мещанина: на службе он может выглядеть благопристойным, чистеньким, а дома — кулаком, мироедом, тираном, мучителем ближних. Сколько еще таких людей есть у нас в обществе! Особенно вредна мысль об абсолютной свободе в сфере интимных, нравственно-эстетических отношений — в любви, браке, семейной жизни. В этих сферах человеческой жизни свобода является прежде всего величайшей ответственностью. Хорошо сказал об этом Леонид Мартынов:
Такое деление по существу лежит в основе философии мещанина: на службе он может выглядеть благопристойным, чистеньким, а дома — кулаком, мироедом, тираном, мучителем ближних. Сколько еще таких людей есть у нас в обществе! Особенно вредна мысль об абсолютной свободе в сфере интимных, нравственно-эстетических отношений — в любви, браке, семейной жизни. В этих сферах человеческой жизни свобода является прежде всего величайшей ответственностью. Хорошо сказал об этом Леонид Мартынов:
Я уяснил, Что значит быть свободным. Я разобрался в этом чувстве трудном, Одном из самых личных чувств на свете. И знаете, что значит быть свободным? Ведь это значит быть за все в ответе! За все я отвечаю в этом мире — За вздохи, слезы, горе и потери.., За веру, суеверье и безверье.[13]
Кстати, если ты не читал стихотворений этого хорошего поэта, я пришлю тебе его “Избранное”. Советский человек поистине свободен. Но мы, коммунисты, никогда не скрываем того, что свободу мы понимаем только как деятельность в интересах народа. Проповедь войны, насилия, разврата у нас карается законом, здесь нет и не может быть никакой свободы личности. Если бы каждый мог делать, что ему вздумается, общество превратилось бы в сумасшедший дом, и человеку страшно было бы выйти на улицу. Основа свободы советского человека — это гармония общественных и личных интересов. Общество заинтересовано в том, чтобы ты, студент, учился хорошо, стал хорошим специалистом. Это в интересах трудового народа. Значит, ты свободен выбрать сотни путей для того, чтобы учиться как можно лучше. Не волен выбирать только ни одного пути к тому, чтобы увиливать от учения, бездельничать. Главное — это воля самого человека, самоограничение. Надо тонко чувствовать три вещи: можно, нельзя и надо. Тот, кто чувствует эти вещи, обладает важнейшей особенностью гражданина — чувством долга. Долг — это свобода в действии, это одухотворение человеческих поступков благородной идеей — во имя чего я делаю это.
Проповедь войны, насилия, разврата у нас карается законом, здесь нет и не может быть никакой свободы личности. Если бы каждый мог делать, что ему вздумается, общество превратилось бы в сумасшедший дом, и человеку страшно было бы выйти на улицу. Основа свободы советского человека — это гармония общественных и личных интересов. Общество заинтересовано в том, чтобы ты, студент, учился хорошо, стал хорошим специалистом. Это в интересах трудового народа. Значит, ты свободен выбрать сотни путей для того, чтобы учиться как можно лучше. Не волен выбирать только ни одного пути к тому, чтобы увиливать от учения, бездельничать. Главное — это воля самого человека, самоограничение. Надо тонко чувствовать три вещи: можно, нельзя и надо. Тот, кто чувствует эти вещи, обладает важнейшей особенностью гражданина — чувством долга. Долг — это свобода в действии, это одухотворение человеческих поступков благородной идеей — во имя чего я делаю это. Наше общество является самым справедливым в мире, и поэтому выполнение долга не связывает человека, не сковывает его свободы воли, а наоборот — предоставляет ему подлинную свободу, Долг и совесть — эти нравственные чувства составляют важнейшую черту, отличающую человека от животного. Развивай в себе человеческое, дорогой сын. Следуй поучению Гете: “Как познать себя? Не путем созерцания, но только путем деятельности. Попробуй выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть” [14]. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
Наше общество является самым справедливым в мире, и поэтому выполнение долга не связывает человека, не сковывает его свободы воли, а наоборот — предоставляет ему подлинную свободу, Долг и совесть — эти нравственные чувства составляют важнейшую черту, отличающую человека от животного. Развивай в себе человеческое, дорогой сын. Следуй поучению Гете: “Как познать себя? Не путем созерцания, но только путем деятельности. Попробуй выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть” [14]. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Пишу тебе из Берлина. Я говорил перед отъездом, что буду здесь дней пятнадцать, но по приезде в Берлин постарался ускорить дела,
не тратить попусту время и выехать раньше. Буду в ГДР дней десять. Я не впервые за границей: приходилось побывать во многих странах. И каждый раз, когда судьба забрасывает далеко от родной земли, с новой силой пробуждается чувство любви к Родине. Вдали от Родины с особенной глубиной чувствуешь свою ответственность за все, что есть у нас дома. Как только кто-нибудь из твоих зарубежных собеседников что-нибудь скажет то ли о советской школе, то ли об экономике нашей страны,- сердце твое замирает, как будто говорят лично о тебе. Как радостно слышать все хорошее! Какое чувство гордости охватывает душу, когда слышишь о своей Родине как о путеводной звезде человечества. Родина-это ласковая и требовательная мать. Матери больно, если ее сын стал плохим человеком — ленивым, бессердечным, слабовольным, лицемерным, нечестным. Родине, как родной матери, больно, если ты не станешь настоящим человеком. Живи и трудись так, чтобы Родина гордилась тобой. Умей увидеть самого себя с наивысшей вершины с точки зрения высших интересов родного народа. Гордись своими предками — борцами за свободу и независимость Родины, за освобождение трудящихся от эксплуатации, за победу социалистической революции, за спасение мира от фашизма.
Вдали от Родины с особенной глубиной чувствуешь свою ответственность за все, что есть у нас дома. Как только кто-нибудь из твоих зарубежных собеседников что-нибудь скажет то ли о советской школе, то ли об экономике нашей страны,- сердце твое замирает, как будто говорят лично о тебе. Как радостно слышать все хорошее! Какое чувство гордости охватывает душу, когда слышишь о своей Родине как о путеводной звезде человечества. Родина-это ласковая и требовательная мать. Матери больно, если ее сын стал плохим человеком — ленивым, бессердечным, слабовольным, лицемерным, нечестным. Родине, как родной матери, больно, если ты не станешь настоящим человеком. Живи и трудись так, чтобы Родина гордилась тобой. Умей увидеть самого себя с наивысшей вершины с точки зрения высших интересов родного народа. Гордись своими предками — борцами за свободу и независимость Родины, за освобождение трудящихся от эксплуатации, за победу социалистической революции, за спасение мира от фашизма.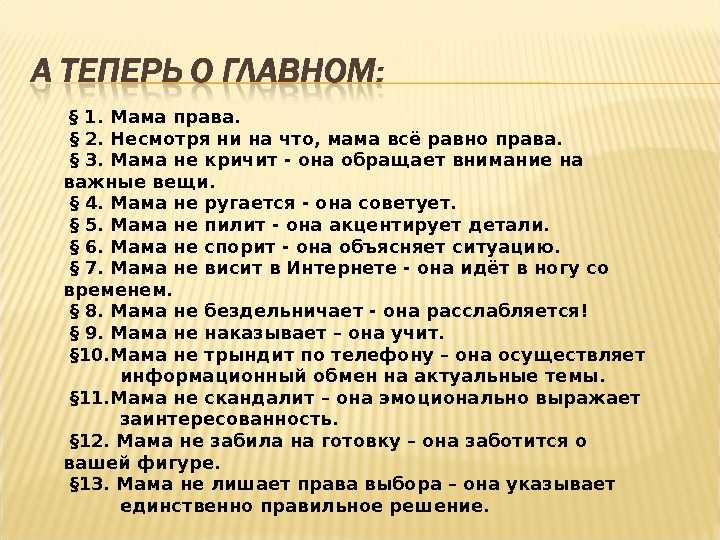 Имена великих сынов твоей Родины это твоя святыня, твоя гордость. Помни, что наша Родина — первое в мире социалистическое государство. Она открыла человечеству путь к коммунизму. Это твоя национальная гордость. Помни, что наша Родина дала миру великого Ленина. Я ехал через Польшу, Германию и видел множество могил, где покоится прах советских воинов. Тысячи братских могил. Миллионы сыновей нашей Родины погибли за то, чтобы мир не был в фашистском рабстве. Я был в Бухенвальде теперь здесь музей-памятник жертвам фашизма, а в годы войны здесь был один из самых страшных лагерей смерти. Волосы подымаются на голове, когда видишь, как с немецкой точностью и методичностью фашисты уничтожали здесь сотни тысяч (так говорят — сотни тысяч, а может быть, и миллионы — никто не знает, документы все уничтожены…) узников, среди которых больше всего было советских людей. Я видел засушенные человеческие головы и сумочки, сделанные из человеческой кожи, из человеческого волоса фашисты делали мешки и матрацы.
Имена великих сынов твоей Родины это твоя святыня, твоя гордость. Помни, что наша Родина — первое в мире социалистическое государство. Она открыла человечеству путь к коммунизму. Это твоя национальная гордость. Помни, что наша Родина дала миру великого Ленина. Я ехал через Польшу, Германию и видел множество могил, где покоится прах советских воинов. Тысячи братских могил. Миллионы сыновей нашей Родины погибли за то, чтобы мир не был в фашистском рабстве. Я был в Бухенвальде теперь здесь музей-памятник жертвам фашизма, а в годы войны здесь был один из самых страшных лагерей смерти. Волосы подымаются на голове, когда видишь, как с немецкой точностью и методичностью фашисты уничтожали здесь сотни тысяч (так говорят — сотни тысяч, а может быть, и миллионы — никто не знает, документы все уничтожены…) узников, среди которых больше всего было советских людей. Я видел засушенные человеческие головы и сумочки, сделанные из человеческой кожи, из человеческого волоса фашисты делали мешки и матрацы. Я видел мыло, сваренное из человеческих костей. Страшная судьба угрожала миру. В музее я видел фашистские планы: они намеревались полностью уничтожить славянские народы. Помни, что от этой угрозы человечество спас рядовой советский воин, который лежит под березкой… Помни, что за твое счастье отдали жизнь тысячи людей. В тюрьмах и на виселице, под пулями и в адских печах лагерей смерти, в смертельных боях за каждый шаг земли — от Волги до Берлина умирали советские люди, умирали твои ровесники. Помни, что двадцать два миллиона лучших сыновей нашей Родины погибли, оберегая твою колыбель. Миллионы матерей не знают, где похоронены их дети. В счастливый день своей жизни приди на могилу героев. Склони перед ними свою голову, возложи цветы. Помни, что у каждого народа есть своя святыня — герои, отдавшие жизнь на алтарь свободы и счастья человечества. Пусть для тебя будет дорога память об Иване Сусанине и Устиме Кармелюке, об Александре Ульянове и Шандоре Петефи, о Сергее Лазо и Эрнсте Тельмане, о Зое Космодемьянской и Юлиусе Фучике, об Александре Матросове и Никосе Белояннисе, о Мусе Джалиле и Хулиане Гримау.
Я видел мыло, сваренное из человеческих костей. Страшная судьба угрожала миру. В музее я видел фашистские планы: они намеревались полностью уничтожить славянские народы. Помни, что от этой угрозы человечество спас рядовой советский воин, который лежит под березкой… Помни, что за твое счастье отдали жизнь тысячи людей. В тюрьмах и на виселице, под пулями и в адских печах лагерей смерти, в смертельных боях за каждый шаг земли — от Волги до Берлина умирали советские люди, умирали твои ровесники. Помни, что двадцать два миллиона лучших сыновей нашей Родины погибли, оберегая твою колыбель. Миллионы матерей не знают, где похоронены их дети. В счастливый день своей жизни приди на могилу героев. Склони перед ними свою голову, возложи цветы. Помни, что у каждого народа есть своя святыня — герои, отдавшие жизнь на алтарь свободы и счастья человечества. Пусть для тебя будет дорога память об Иване Сусанине и Устиме Кармелюке, об Александре Ульянове и Шандоре Петефи, о Сергее Лазо и Эрнсте Тельмане, о Зое Космодемьянской и Юлиусе Фучике, об Александре Матросове и Никосе Белояннисе, о Мусе Джалиле и Хулиане Гримау. Помни, что на такую же вершину доблести и героизма народ вознес каждого из двадцати миллионов погибших. Может быть, ты удивляешься: почему отец не рассказывает в своем письме ничего интересного о зарубежной жизни, о людях; почему он говорит о том, что давно известно… Потому что здесь — что бы я ни видел, о чем бы ни услышал — я думаю о Родине, вижу Родину. Думаю о поколении, которому сейчас двадцать лет. Прекрасное поколение, завидная судьба ваша, дорогой сын. Ты и твои ровесники доживете до начала 21-го столетия, будете в расцвете творческих сил. Меня больше всего тревожит: сумеем ли мы, ваши отцы, передать вам все наши нравственные ценности, все наши богатства, которые так дорого достались нам? Поймете ли вы до конца, почувствуете ли всем сердцем, какие страшные трудности переживали мы в годы Великой Отечественной войны и в годы восстановления народного хозяйства нашей Родины? Хочется, чтобы вы стали достойными нашими наследниками.
Помни, что на такую же вершину доблести и героизма народ вознес каждого из двадцати миллионов погибших. Может быть, ты удивляешься: почему отец не рассказывает в своем письме ничего интересного о зарубежной жизни, о людях; почему он говорит о том, что давно известно… Потому что здесь — что бы я ни видел, о чем бы ни услышал — я думаю о Родине, вижу Родину. Думаю о поколении, которому сейчас двадцать лет. Прекрасное поколение, завидная судьба ваша, дорогой сын. Ты и твои ровесники доживете до начала 21-го столетия, будете в расцвете творческих сил. Меня больше всего тревожит: сумеем ли мы, ваши отцы, передать вам все наши нравственные ценности, все наши богатства, которые так дорого достались нам? Поймете ли вы до конца, почувствуете ли всем сердцем, какие страшные трудности переживали мы в годы Великой Отечественной войны и в годы восстановления народного хозяйства нашей Родины? Хочется, чтобы вы стали достойными нашими наследниками. Чтобы дорожили созданным старшими поколениями. И самое главное — чтобы у каждого из вас, нашей смены, главным в жизни было то, что ни с чем не сравнимо и не сопоставимо — Советская Родина. Надо быть готовым к ее защите. Вы изучаете военное дело — надо со всей серьезностью относиться к этому предмету. Каждому из нас, мужчина, надо твердо помнить: у меня две специальности: первая — то ли учитель, то ли агроном, инженер, а вторая у всех одна и та же — защитник Родины. Домой буду ехать через неделю. Обязательно заеду к тебе. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Твой отец.
Чтобы дорожили созданным старшими поколениями. И самое главное — чтобы у каждого из вас, нашей смены, главным в жизни было то, что ни с чем не сравнимо и не сопоставимо — Советская Родина. Надо быть готовым к ее защите. Вы изучаете военное дело — надо со всей серьезностью относиться к этому предмету. Каждому из нас, мужчина, надо твердо помнить: у меня две специальности: первая — то ли учитель, то ли агроном, инженер, а вторая у всех одна и та же — защитник Родины. Домой буду ехать через неделю. Обязательно заеду к тебе. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Долго думал над твоим письмом, поэтому пишу с таким опозданием. Я разделяю твое возмущение и возмущение твоих товарищей хамским поступком студента одного из вузов. Нравственная чистота любви — это зеркало человеческой души. Если у человека есть что-то грязное в этой сфере духовно-психологических и нравственно-эстетических отношений, значит, вообще он грязное, мерзкое существо, он не может быть хорошим гражданином, честным тружеником, порядочным человеком.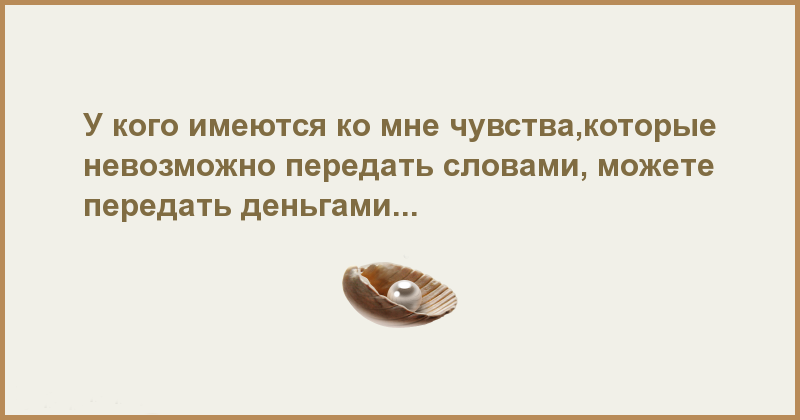 Среди всего, что роднит человека с миром живого, особенно важно облагораживание полового инстинкта. Ум и воля должны в этой сфере духовной жизни быть особенно бдительными стражами чувства полового влечения. Я отвергаю утверждения некоторых писателей и публицистов, считающих что чувству приказать нельзя, человек-де не властен над своим влечением. Это мягкое покрывало, которым пытаются прикрывать половую распущенность и “свободу любви” [15], против которой резко выступал В. И. Ленин. Особенно вредна эта теория “первенства эмоций” для молодых людей, только вступающих в жизнь. Задолго до того, как человека взволнует чувство полового влечения, его должна пленить красота души, он должен глубоко пережить нравственную привязанность к другому человеку. Только при этом условии любовь может быть крепкой, настоящей. В подлинной любви ум помогает чувству, вдыхает в него нравственную силу, морально облагораживает душевные движения, а не подвергает чувство расчету, логическому анализу, не заставляет человека взвешивать зависимость своего благополучия от того, кого он полюбил.
Среди всего, что роднит человека с миром живого, особенно важно облагораживание полового инстинкта. Ум и воля должны в этой сфере духовной жизни быть особенно бдительными стражами чувства полового влечения. Я отвергаю утверждения некоторых писателей и публицистов, считающих что чувству приказать нельзя, человек-де не властен над своим влечением. Это мягкое покрывало, которым пытаются прикрывать половую распущенность и “свободу любви” [15], против которой резко выступал В. И. Ленин. Особенно вредна эта теория “первенства эмоций” для молодых людей, только вступающих в жизнь. Задолго до того, как человека взволнует чувство полового влечения, его должна пленить красота души, он должен глубоко пережить нравственную привязанность к другому человеку. Только при этом условии любовь может быть крепкой, настоящей. В подлинной любви ум помогает чувству, вдыхает в него нравственную силу, морально облагораживает душевные движения, а не подвергает чувство расчету, логическому анализу, не заставляет человека взвешивать зависимость своего благополучия от того, кого он полюбил.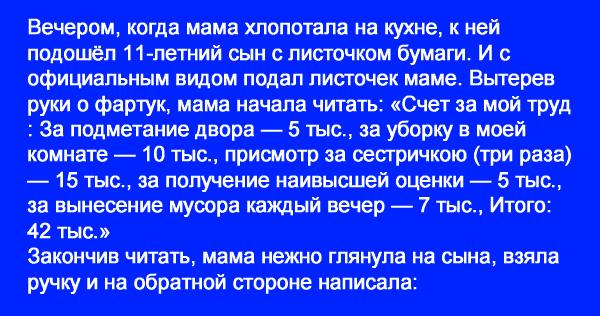 Любовь благородна там, где в нравственной привязанности человека к человеку слиты воедино чувства и мысли. Ты взрослый человек, ты сам завтрашний отец, и я говорю тебе обо всем этом со всей откровенностью. Я обязан это делать как отец. Если у отца сын оказывается подлецом, общество вправе спросить у него: почему Вы не выполняете своего долга перед обществом? Ведь важнейший общественный долг каждого гражданина — дать Отчизне настоящего человека. Отец — это высокое гражданское имя, помни это, сын. Меня тревожит, я бы сказал, распущенность в легкой форме, которой болеют многие молодые люди. Среди бела дня, бывает, идут людной улицей парень и девушка, идут и обнимаются, а то и целуются. Я однажды спросил у одной очень молодой девушки: “Неужели Вас не смущает то, что люди кругом?” Она ответила: “А разве дружбу надо скрывать?” Это неумный ответ девушки, которая готова физически к рождению ребенка, но не готова морально. Глупо и цинично выставлять напоказ то, что должно быть глубоко интимным, сокровенным, неприкосновенным.
Любовь благородна там, где в нравственной привязанности человека к человеку слиты воедино чувства и мысли. Ты взрослый человек, ты сам завтрашний отец, и я говорю тебе обо всем этом со всей откровенностью. Я обязан это делать как отец. Если у отца сын оказывается подлецом, общество вправе спросить у него: почему Вы не выполняете своего долга перед обществом? Ведь важнейший общественный долг каждого гражданина — дать Отчизне настоящего человека. Отец — это высокое гражданское имя, помни это, сын. Меня тревожит, я бы сказал, распущенность в легкой форме, которой болеют многие молодые люди. Среди бела дня, бывает, идут людной улицей парень и девушка, идут и обнимаются, а то и целуются. Я однажды спросил у одной очень молодой девушки: “Неужели Вас не смущает то, что люди кругом?” Она ответила: “А разве дружбу надо скрывать?” Это неумный ответ девушки, которая готова физически к рождению ребенка, но не готова морально. Глупо и цинично выставлять напоказ то, что должно быть глубоко интимным, сокровенным, неприкосновенным. Парню восемнадцать лет, ему понравилась девушка — и он уже обнимает и целует ее. Это распущенность. Подлинная любовь — великий, священный долг, обязательство на всю жизнь. Если ты хочешь не растерять свои чувства, не опустошиться духовно,- не поддавайся первому влечению. Целовать и ласкать человек может того, кому он дает какое-то нравственное обязательство: стать мужем, стать отцом ее детей. Всякую другую любовь, любовь для острых ощущений, любовь от скуки — я считаю распущенностью. Помни, что любовь — это прежде всего ответственность за того человека, которого ты полюбил, за его судьбу, за его будущее. Развратник и негодяй тот, кто в любви ищет только источник наслаждений. Любить — это значит прежде всего отдавать, отдавать любимому существу силы своей души, творить для него счастье.
Парню восемнадцать лет, ему понравилась девушка — и он уже обнимает и целует ее. Это распущенность. Подлинная любовь — великий, священный долг, обязательство на всю жизнь. Если ты хочешь не растерять свои чувства, не опустошиться духовно,- не поддавайся первому влечению. Целовать и ласкать человек может того, кому он дает какое-то нравственное обязательство: стать мужем, стать отцом ее детей. Всякую другую любовь, любовь для острых ощущений, любовь от скуки — я считаю распущенностью. Помни, что любовь — это прежде всего ответственность за того человека, которого ты полюбил, за его судьбу, за его будущее. Развратник и негодяй тот, кто в любви ищет только источник наслаждений. Любить — это значит прежде всего отдавать, отдавать любимому существу силы своей души, творить для него счастье.
Помни, сын, что от характера отношений мужчины и женщины до брака, от того, насколько преобладает в этих отношениях духовно-психологический, нравственно-эстетический элемент, зависит моральная чистота всей их жизни.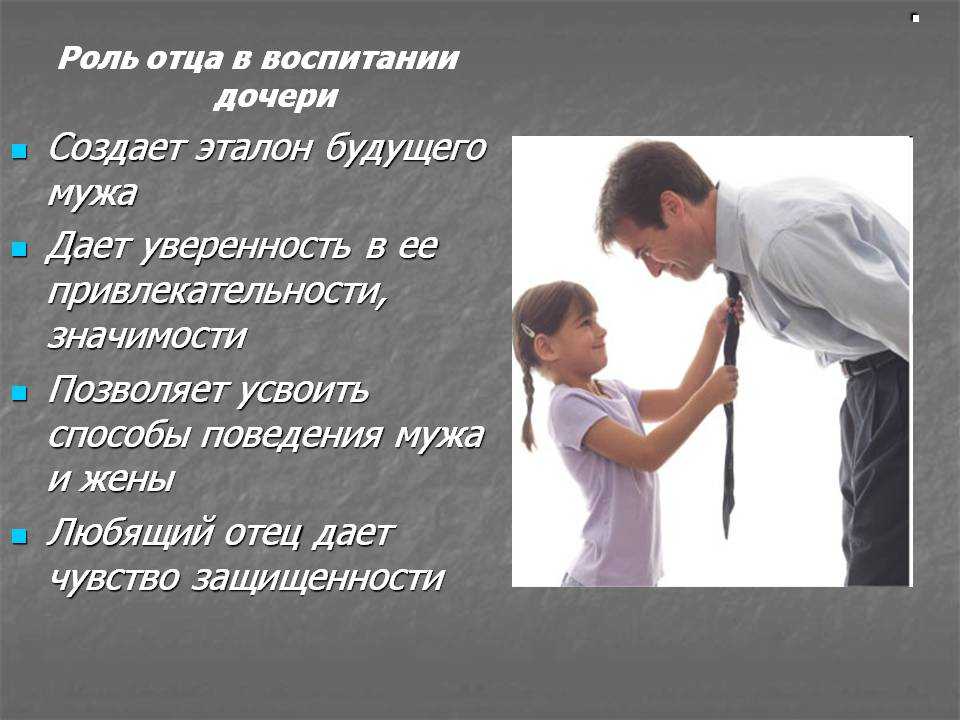 Как огня, опасайся “опыта” и “многоопытности” в любви. Чем чище, благороднее духовно-психологические отношения любящих перед браком, тем выше нравственный долг юноши — будущего мужа. Нравственный долг перед женщиной, ответственность за ее будущее — вот что делает из юноши мужчину. Чистая любовь приносит юноше возмужание, легкомысленная любовь, любовь от скуки развращает его. Высшая радость духовного общения влюбленных в интеллектуальном и эстетическом взаимном обогащении, в постепенном узнавании и открытии все новых и новых нравственных и эстетических качеств, в том, что влюбленные жадно впитывают друг от друга все лучшее и потом как бы отдают друг другу. Верная любовь, любовь на всю жизнь, кто о ней не мечтает? Но от чего же зависит она? От неисчерпаемости человека — так можно сказать. Скоро исполнится 25 лет, как мы поженились с твоей матерью… И каждый раз, встречая ее после нескольких дней разлуки, я чувствую трепет сердца — вижу в ней, единственной в мире любимой женщине, что-то новое.
Как огня, опасайся “опыта” и “многоопытности” в любви. Чем чище, благороднее духовно-психологические отношения любящих перед браком, тем выше нравственный долг юноши — будущего мужа. Нравственный долг перед женщиной, ответственность за ее будущее — вот что делает из юноши мужчину. Чистая любовь приносит юноше возмужание, легкомысленная любовь, любовь от скуки развращает его. Высшая радость духовного общения влюбленных в интеллектуальном и эстетическом взаимном обогащении, в постепенном узнавании и открытии все новых и новых нравственных и эстетических качеств, в том, что влюбленные жадно впитывают друг от друга все лучшее и потом как бы отдают друг другу. Верная любовь, любовь на всю жизнь, кто о ней не мечтает? Но от чего же зависит она? От неисчерпаемости человека — так можно сказать. Скоро исполнится 25 лет, как мы поженились с твоей матерью… И каждый раз, встречая ее после нескольких дней разлуки, я чувствую трепет сердца — вижу в ней, единственной в мире любимой женщине, что-то новое. Глаза любимого человека как бы открывают все новую и новую красоту. Богатство духовного мира выражается во множестве оттенков чувств, которые может передать человеческий взгляд. Если же круг этих чувств ограничен, то и внешняя красота, поразившая при первой встрече, со временем тускнеет, теряет свою привлекательность. Там, где любовь выражается только в мимолетном очаровании внешними чертами, где человек ищет наслаждение только в красоте лица, фигуры,- неизбежны разочарования, “несходство характеров”. Нет какой-то специальной “науки любви”,- помни это,- есть наука человечности; кто овладел ее азбукой, тот готов к благородным духовно-психологическим и морально-эстетическим отношениям. Любовь — это самый строгий экзамен человечности. В беседе с Кларой Цеткин В. И. Ленин подчеркивал, что в любви необходимы самоограничение, самодисциплина [16]. И ведущая роль здесь принадлежит нам, мужчинам. Будь сдержанным в своих порывах.
Глаза любимого человека как бы открывают все новую и новую красоту. Богатство духовного мира выражается во множестве оттенков чувств, которые может передать человеческий взгляд. Если же круг этих чувств ограничен, то и внешняя красота, поразившая при первой встрече, со временем тускнеет, теряет свою привлекательность. Там, где любовь выражается только в мимолетном очаровании внешними чертами, где человек ищет наслаждение только в красоте лица, фигуры,- неизбежны разочарования, “несходство характеров”. Нет какой-то специальной “науки любви”,- помни это,- есть наука человечности; кто овладел ее азбукой, тот готов к благородным духовно-психологическим и морально-эстетическим отношениям. Любовь — это самый строгий экзамен человечности. В беседе с Кларой Цеткин В. И. Ленин подчеркивал, что в любви необходимы самоограничение, самодисциплина [16]. И ведущая роль здесь принадлежит нам, мужчинам. Будь сдержанным в своих порывах. Знай, что физическая близость любящих друг друга существ морально оправдывается близостью духовной — взаимным уважением, готовностью вместе пройти жизнь, всегда поддерживать друг друга. Знай, что девушку, духовно богатую, умную, честную глубоко унижает, возмущает то, что до вступления в брак юноша стремится к близости физической. Знай, что самые счастливые дни юности — это та чистая, идеальная любовь, с которой духовно богатым людям долго не хочется расстаться. Если встретились юноша и девушка, у которых одинаково развито чувство чести и достоинства, то они очень долго не переходят той черты, за которой начинается физическая близость. Это не значит, что у них нет стремления к этому. Это стремление горячо и страстно, но физическая близость без близости духовной кажется им морально неоправданной. Период духовной близости, идеальной любви у них очень долог, они намеренно стремятся продлить его, и это дает им большое счастье.
Знай, что физическая близость любящих друг друга существ морально оправдывается близостью духовной — взаимным уважением, готовностью вместе пройти жизнь, всегда поддерживать друг друга. Знай, что девушку, духовно богатую, умную, честную глубоко унижает, возмущает то, что до вступления в брак юноша стремится к близости физической. Знай, что самые счастливые дни юности — это та чистая, идеальная любовь, с которой духовно богатым людям долго не хочется расстаться. Если встретились юноша и девушка, у которых одинаково развито чувство чести и достоинства, то они очень долго не переходят той черты, за которой начинается физическая близость. Это не значит, что у них нет стремления к этому. Это стремление горячо и страстно, но физическая близость без близости духовной кажется им морально неоправданной. Период духовной близости, идеальной любви у них очень долог, они намеренно стремятся продлить его, и это дает им большое счастье. Ты слышал пословицу: “Жизнь прожить — не поле перейти”? В том, каков человек в семейной жизни, проявляется его подлинное моральное лицо. К сожалению, немало в нашем обществе людей, которые вне семьи производят впечатление борцов за высокие идеи, а в семье — мелкие эгоисты или деспоты. Есть люди, которые по уровню своего нравственного развития совсем не готовы к вступлению в брак, и их женитьба или замужество являются в высшей степени аморальными поступками, преступлением перед теми, чью жизнь они создают. Кое-кто смотрит на брак как на беспрепятственную возможность удовлетворять свои инстинкты. Отдельные развращенные молодые люди видят в браке право на то, что им не удалось добиться до брака, несмотря на все домогательства, обещания, клятвенные заверения. Никакие юридические узы не могут укрепить слабость уз духовных. Помни, что, вступая в брак, люди берут на себя не только юридические, материальные, но и духовные обязанности.
Ты слышал пословицу: “Жизнь прожить — не поле перейти”? В том, каков человек в семейной жизни, проявляется его подлинное моральное лицо. К сожалению, немало в нашем обществе людей, которые вне семьи производят впечатление борцов за высокие идеи, а в семье — мелкие эгоисты или деспоты. Есть люди, которые по уровню своего нравственного развития совсем не готовы к вступлению в брак, и их женитьба или замужество являются в высшей степени аморальными поступками, преступлением перед теми, чью жизнь они создают. Кое-кто смотрит на брак как на беспрепятственную возможность удовлетворять свои инстинкты. Отдельные развращенные молодые люди видят в браке право на то, что им не удалось добиться до брака, несмотря на все домогательства, обещания, клятвенные заверения. Никакие юридические узы не могут укрепить слабость уз духовных. Помни, что, вступая в брак, люди берут на себя не только юридические, материальные, но и духовные обязанности. От отношений в семье зависит духовное богатство общества. Иногда молодые супруги уже в первые месяцы “разочаровываются”, исчезает “поэзия любви”. Конкретное содержание и повод для размолвок в таких случаях могут быть самыми разнообразными, но причина всегда одна и та же: вступая в брак, молодые люди полагали, что уже сама по себе любовь как полное отсутствие препятствий к физической и духовной близости, принесет счастье, которое будет неисчерпаемым. Они забывают, что огонь любви, образно выражаясь, постоянно требует хорошего горючего разносторонней духовной жизни, и если этого горючего нет, любовь угасает или же чадит, отравляя воздух себе и людям. Любовь лишь тогда укрепляет семью, когда есть еще и богатство духовной жизни. Помни, что после того, как молодые люди вступили в брак, они в гораздо большей степени должны быть творцами своей любви, чем потребителями ее радостей. В браке должно больше создаваться, чем потребляться.
От отношений в семье зависит духовное богатство общества. Иногда молодые супруги уже в первые месяцы “разочаровываются”, исчезает “поэзия любви”. Конкретное содержание и повод для размолвок в таких случаях могут быть самыми разнообразными, но причина всегда одна и та же: вступая в брак, молодые люди полагали, что уже сама по себе любовь как полное отсутствие препятствий к физической и духовной близости, принесет счастье, которое будет неисчерпаемым. Они забывают, что огонь любви, образно выражаясь, постоянно требует хорошего горючего разносторонней духовной жизни, и если этого горючего нет, любовь угасает или же чадит, отравляя воздух себе и людям. Любовь лишь тогда укрепляет семью, когда есть еще и богатство духовной жизни. Помни, что после того, как молодые люди вступили в брак, они в гораздо большей степени должны быть творцами своей любви, чем потребителями ее радостей. В браке должно больше создаваться, чем потребляться.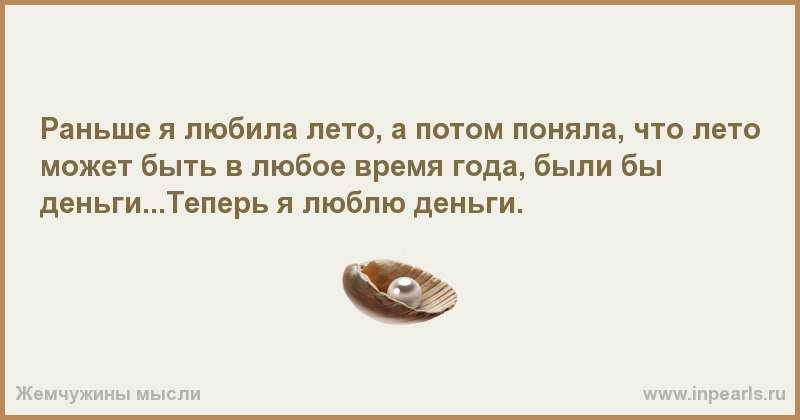 Без постоянного создания запаса духовных богатств невозможно облагораживание физической близости… На каком-то этапе семейной жизни вдруг может оказаться, что муж и жена полностью исчерпали себя, они ничего больше не могут раскрыть перед любимым существом, что-нибудь дать для духовной жизни семьи. Иногда доходит до того, что люди, которые до брака страдали от непродолжительной разлуки, не могут переносить друг друга. Это превращает семейную жизнь в ад. А страдают от этого прежде всего дети, вот что надо помнить. Быть гражданином во всех отношениях — это значит прежде всего заботиться о будущем общества, а будущее наше — дети. Помни, сын, что если у тебя возникнет желание создать семью, ты должен хорошо проверить себя — готов ли ты выполнить свой гражданский долг. Никогда не забывай, что любовь, романтика дружбы — это прежде всего дети. L Для человека, умеющего создавать свое духовное богатство, нет первой, второй любви, а есть любовь единственная.
Без постоянного создания запаса духовных богатств невозможно облагораживание физической близости… На каком-то этапе семейной жизни вдруг может оказаться, что муж и жена полностью исчерпали себя, они ничего больше не могут раскрыть перед любимым существом, что-нибудь дать для духовной жизни семьи. Иногда доходит до того, что люди, которые до брака страдали от непродолжительной разлуки, не могут переносить друг друга. Это превращает семейную жизнь в ад. А страдают от этого прежде всего дети, вот что надо помнить. Быть гражданином во всех отношениях — это значит прежде всего заботиться о будущем общества, а будущее наше — дети. Помни, сын, что если у тебя возникнет желание создать семью, ты должен хорошо проверить себя — готов ли ты выполнить свой гражданский долг. Никогда не забывай, что любовь, романтика дружбы — это прежде всего дети. L Для человека, умеющего создавать свое духовное богатство, нет первой, второй любви, а есть любовь единственная.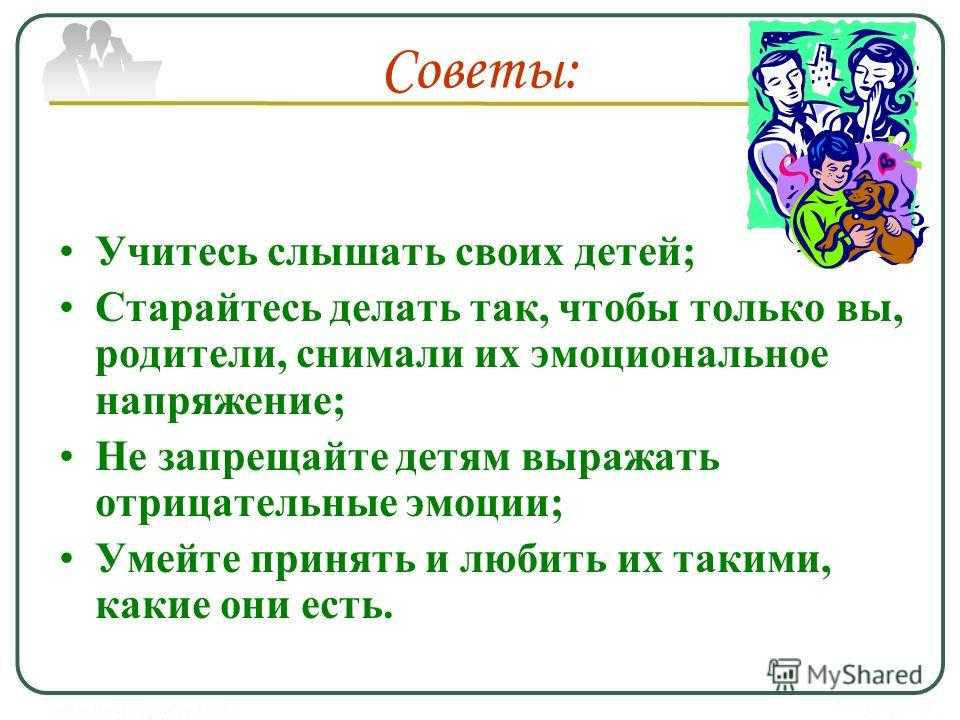 Будь идеалистом в лучшем смысле этого слова. “Люди, которые мечутся, разменивают свои чувства направо и налево, по-моему, должны чувствовать себя в конце концов нищими”,- говорит Брянский, один из героев романа О. Гончара “Знаменосцы” [17]. Глубокая правда заключена в этих словах морально чистого, преданного единственной любви человека. Если ты настоящий человек, если ты способен создавать духовное богатство в любимом тобой человеке, то перестать любить того, кого ты любил в течение нескольких лет,- невозможно. Настоящая любовь — еще раз говорю тебе — с годами не слабеет, а крепнет. В любимом человеке я оставляю частицу своей души, красоту и духовную обаятельность своей души он отдает мне, вместе мы создаем такое богатство, которое вторично создать невозможно. В этом богатстве сочетаются: и наш духовный рост, взаимное обогащение разума и чувств, и дети, и честь, достоинство семьи, и традиции, и воспоминания о прошлом, поэтический ореол молодости, чистота юношеских чувств.
Будь идеалистом в лучшем смысле этого слова. “Люди, которые мечутся, разменивают свои чувства направо и налево, по-моему, должны чувствовать себя в конце концов нищими”,- говорит Брянский, один из героев романа О. Гончара “Знаменосцы” [17]. Глубокая правда заключена в этих словах морально чистого, преданного единственной любви человека. Если ты настоящий человек, если ты способен создавать духовное богатство в любимом тобой человеке, то перестать любить того, кого ты любил в течение нескольких лет,- невозможно. Настоящая любовь — еще раз говорю тебе — с годами не слабеет, а крепнет. В любимом человеке я оставляю частицу своей души, красоту и духовную обаятельность своей души он отдает мне, вместе мы создаем такое богатство, которое вторично создать невозможно. В этом богатстве сочетаются: и наш духовный рост, взаимное обогащение разума и чувств, и дети, и честь, достоинство семьи, и традиции, и воспоминания о прошлом, поэтический ореол молодости, чистота юношеских чувств. Все это оставляет настолько сильный след в душе, что начать новую жизнь без тяжелой душевной травмы невозможно. Не случайно муж или жена, потеряв любимого человека, долгие годы, а иногда и всю жизнь не могут забыть о нем, у них не может возникнуть новое чувство. Это не что-то исключительное, не “романтическая мечтательность”, а глубокое проявление человечного. Человек не может забыть любимое существо потому, что оно вошло в его душу, соединилось с его судьбой. Вот какое длиннющее письмо получилось. Я знаю, что ты без предубеждения относишься к поучениям отца. Вдумайся в каждое мое слово. Будь настоящим человеком во всем. До свидания, дорогой сын. Если сможешь приехать во время первомайских праздников, приезжай хоть на день. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
Все это оставляет настолько сильный след в душе, что начать новую жизнь без тяжелой душевной травмы невозможно. Не случайно муж или жена, потеряв любимого человека, долгие годы, а иногда и всю жизнь не могут забыть о нем, у них не может возникнуть новое чувство. Это не что-то исключительное, не “романтическая мечтательность”, а глубокое проявление человечного. Человек не может забыть любимое существо потому, что оно вошло в его душу, соединилось с его судьбой. Вот какое длиннющее письмо получилось. Я знаю, что ты без предубеждения относишься к поучениям отца. Вдумайся в каждое мое слово. Будь настоящим человеком во всем. До свидания, дорогой сын. Если сможешь приехать во время первомайских праздников, приезжай хоть на день. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Ты спрашиваешь: могут ли быть счастливыми молодые люди, имеющие разный уровень образования, разный круг интеллектуальных интересов и запросов; может ли таких людей объединять чувство любви? С год тому назад ко мне пришла мать одной нашей бывшей выпускницы Веры Л.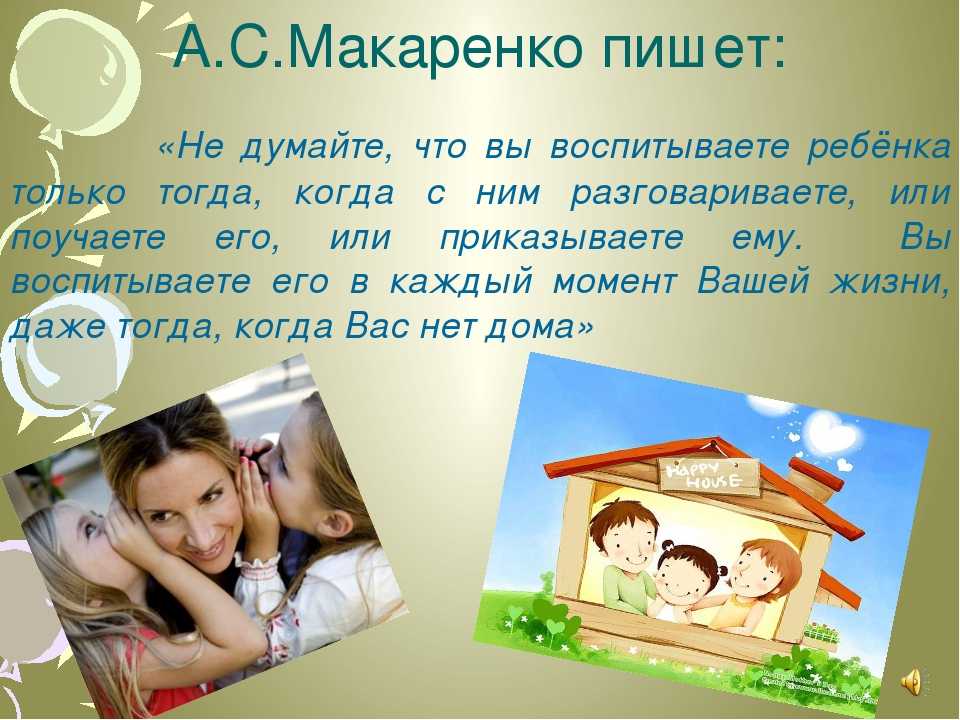 , которая, окончив после средней школы институт, работает на строительстве большого завода. Мать показала мне письмо Веры, в котором девушка пишет о своих тревогах и сомнениях. Я изменил имя девушки, поэтому можно раскрыть эту тайну, она очень поучительна. Девушка писала: “Он хороший рабочий, любит меня, но все-таки нет того счастливого духовного единства, которого я ожидала. Несколько раз начинала я с ним разговор о том, что надо учиться заочно, надо стремиться к знаниям, ведь в будущем без среднего образования не допустят ни к какой машине. А у него всего 6 классов… Говорила, что неплохо было бы поехать вдвоем в Москву, в Ленинград,-посмотреть свою Родину. Он с удивлением отвечал: “Как далеко ты заглядываешь вперед. Надо думать о сегодняшнем дне; есть хороший заработок — и хорошо. А что будет дальше увидим, да и вообще не нашего это ума дело”. И потом еще добавил: “Какой толк от этих поездок, не прибавят они ничего, только деньги впустую израсходуешь.
, которая, окончив после средней школы институт, работает на строительстве большого завода. Мать показала мне письмо Веры, в котором девушка пишет о своих тревогах и сомнениях. Я изменил имя девушки, поэтому можно раскрыть эту тайну, она очень поучительна. Девушка писала: “Он хороший рабочий, любит меня, но все-таки нет того счастливого духовного единства, которого я ожидала. Несколько раз начинала я с ним разговор о том, что надо учиться заочно, надо стремиться к знаниям, ведь в будущем без среднего образования не допустят ни к какой машине. А у него всего 6 классов… Говорила, что неплохо было бы поехать вдвоем в Москву, в Ленинград,-посмотреть свою Родину. Он с удивлением отвечал: “Как далеко ты заглядываешь вперед. Надо думать о сегодняшнем дне; есть хороший заработок — и хорошо. А что будет дальше увидим, да и вообще не нашего это ума дело”. И потом еще добавил: “Какой толк от этих поездок, не прибавят они ничего, только деньги впустую израсходуешь. А нам надо дом строить. Да надо подумать и о хозяйстве завести свиней, кур… А учиться не хочу, получишь среднее или высшее образование, а заработок от этого не повысится. Вот ты окончила институт, а получаешь меньше моего”… Мама, дорогая, что же мне делать? Не могу я с ним теперь встречаться, не могу даже смотреть на него. Права ли я? Или во мне в самом деле много чудачества, как он говорит? Или я идеалистка, как сказала мне подруга, когда я поделилась с ней своими сомнениями? Я чувствую, что жизнь с ним будет скучной, угрюмой, как засохшая ива у нашего пруда…” Права была мать, написавшая дочке: “Зачем ограничивать свою жизнь домом, кухней, цыплятами и поросятами, когда перед каждым человеком открывается такой светлый, прекрасный мир? А из слов Виктора, из того, как он относится к тебе, видно, что как только ты станешь его женой, ему захочется, чтобы ты оставила работу, а потом станет укорять: я тебя кормлю… Горькая это участь, дочка”.
А нам надо дом строить. Да надо подумать и о хозяйстве завести свиней, кур… А учиться не хочу, получишь среднее или высшее образование, а заработок от этого не повысится. Вот ты окончила институт, а получаешь меньше моего”… Мама, дорогая, что же мне делать? Не могу я с ним теперь встречаться, не могу даже смотреть на него. Права ли я? Или во мне в самом деле много чудачества, как он говорит? Или я идеалистка, как сказала мне подруга, когда я поделилась с ней своими сомнениями? Я чувствую, что жизнь с ним будет скучной, угрюмой, как засохшая ива у нашего пруда…” Права была мать, написавшая дочке: “Зачем ограничивать свою жизнь домом, кухней, цыплятами и поросятами, когда перед каждым человеком открывается такой светлый, прекрасный мир? А из слов Виктора, из того, как он относится к тебе, видно, что как только ты станешь его женой, ему захочется, чтобы ты оставила работу, а потом станет укорять: я тебя кормлю… Горькая это участь, дочка”. Как видишь, человеку далеко не безразлично, с кем он связывает свою судьбу. У него есть определенные требования к духовному миру того человека, с которым он собирается пройти жизнь рука об руку. Дремучее невежество и бескультурье бывает у людей, имеющих высшее образование или даже ученую степень. И наоборот, простой, как говорят, рабочий или колхозник может быть в высшей мере интеллигентным человеком. В одном из сел нашего района работала звеньевой свекловодческого звена 18-летняя Полина М. С девушкой, окончившей восемь классов и оставившей школу после смерти отца, познакомился молодой врач, только что назначенный в село. Он влюбился в Полину. Но девушка глубоко скрывала свои чувства. Молодой человек ей нравился, в его добрых намерениях не было сомнения, но ее угнетала мысль, он стоит выше по образованию. Девушка с болью замечала, что там, где у любимого человека широкие, разносторонние знания, у нее только отрывчатые сведения.
Как видишь, человеку далеко не безразлично, с кем он связывает свою судьбу. У него есть определенные требования к духовному миру того человека, с которым он собирается пройти жизнь рука об руку. Дремучее невежество и бескультурье бывает у людей, имеющих высшее образование или даже ученую степень. И наоборот, простой, как говорят, рабочий или колхозник может быть в высшей мере интеллигентным человеком. В одном из сел нашего района работала звеньевой свекловодческого звена 18-летняя Полина М. С девушкой, окончившей восемь классов и оставившей школу после смерти отца, познакомился молодой врач, только что назначенный в село. Он влюбился в Полину. Но девушка глубоко скрывала свои чувства. Молодой человек ей нравился, в его добрых намерениях не было сомнения, но ее угнетала мысль, он стоит выше по образованию. Девушка с болью замечала, что там, где у любимого человека широкие, разносторонние знания, у нее только отрывчатые сведения. Умный, чуткий молодой человек распознал в Полине М. большую, гордую душу. Услышав решительный отказ на предложение выйти за него замуж, он понял, что девушка не согласится на это до тех пор, пока не сделает хотя бы одного шага, который приблизил бы ее к цели: девушка рассказала молодому врачу, что она поставила целью окончить десятилетку, а потом поступить в институт. Она уже учится в заочной средней школе. Ее мечта — стать учительницей. Постепенно цель девушки увлекла и молодого человека. Он помогал Полине учиться, в то же время сам решил овладеть в совершенстве хирургией. Они мечтали о будущем, жили будущим, верили в осуществление мечты. Это была чистая, идеальная любовь, продолжавшаяся несколько лет. Только через пять лет после знакомства, окончив среднюю школу и два курса института, девушка согласилась выйти замуж. Их любовь была высоконравственной дружбой. Между ними еще не было и намека на физическую близость, не допускалась даже мысль об этом, но они уже принадлежали друг другу в том смысле, что были верны друг другу и своему идеалу.
Умный, чуткий молодой человек распознал в Полине М. большую, гордую душу. Услышав решительный отказ на предложение выйти за него замуж, он понял, что девушка не согласится на это до тех пор, пока не сделает хотя бы одного шага, который приблизил бы ее к цели: девушка рассказала молодому врачу, что она поставила целью окончить десятилетку, а потом поступить в институт. Она уже учится в заочной средней школе. Ее мечта — стать учительницей. Постепенно цель девушки увлекла и молодого человека. Он помогал Полине учиться, в то же время сам решил овладеть в совершенстве хирургией. Они мечтали о будущем, жили будущим, верили в осуществление мечты. Это была чистая, идеальная любовь, продолжавшаяся несколько лет. Только через пять лет после знакомства, окончив среднюю школу и два курса института, девушка согласилась выйти замуж. Их любовь была высоконравственной дружбой. Между ними еще не было и намека на физическую близость, не допускалась даже мысль об этом, но они уже принадлежали друг другу в том смысле, что были верны друг другу и своему идеалу.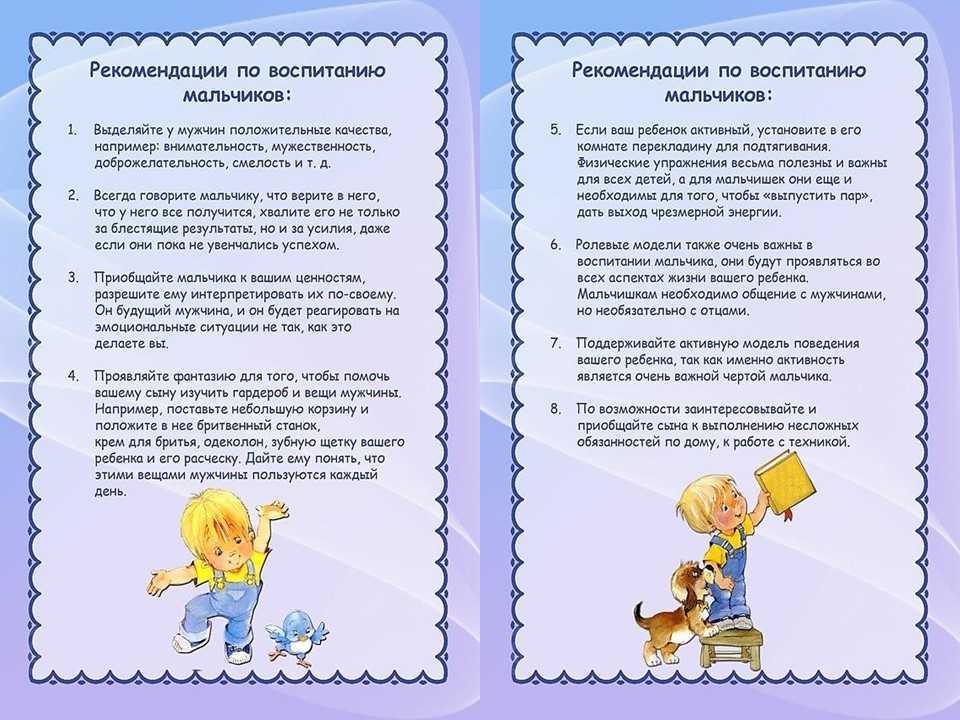 Можно построить жизнь без горя и страданий, без душевных надломов. Можно создать изумительное человеческое счастье. Помни, что ты сам — творец своей судьбы, своего счастья. Вдумайся во все это, сын. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя.
Можно построить жизнь без горя и страданий, без душевных надломов. Можно создать изумительное человеческое счастье. Помни, что ты сам — творец своей судьбы, своего счастья. Вдумайся во все это, сын. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя.
Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Из твоего письма видно, что мои поучения стали как бы искрой для дискуссии, разгоревшейся у вас в общежитии. Ну, что же, это неплохо. Хорошо, что молодым людям все это не безразлично. Ты пишешь, что кое-кто из твоих товарищей не верит в дружбу, просто дружбу юноши и девушки: раз уж юноша и девушка — должна быть обязательно любовь. Скажу, что думаю по поводу этого. Дружба — это школа воспитания человеческих чувств. Дружба нужна нам не для того, чтобы чем-то заполнить время, а для того, чтобы утверждать в человеке и прежде всего в самом себе добро. Я считаю одним из самых главных правил морального воспитания то, чтобы в годы отрочества и ранней юности каждый человек пережил глубокое чувство восхищения духовным благородством хорошего человека, влюбился в него. От этого по существу зависит вера в человека, в красоту человечности. Если этого нет — душа человека пуста, малейшие неурядицы жизни могут вызвать у него мелочное брюзжание, неверие в свои силы. Пустота души, то, что а человеке нет веры ни во что,- самый страшный порок — я уже когда-то писал тебе об этом, повторяю еще раз. Пустая душа жадно впитывает плохое и трудно поддается влиянию хорошего, потому что пустота, духовная убогость уже сами по себе являются пороками. Тот, у кого пустая душа, не может быть настоящим другом, он не чувствует человечности в дружбе. Жизнь убедила меня, что если в годы отрочества и ранней юности человека воодушевляет нравственный идеал, если человек понимает, что такое правильный человек, то дружба духовно обогащает его, в дружбе он ищет не провождения времени, а поле для самоутверждения и самовоспитания. Особенно необходима эта благородная духовная потребность — потребность в человеке для формирования мужчины.
От этого по существу зависит вера в человека, в красоту человечности. Если этого нет — душа человека пуста, малейшие неурядицы жизни могут вызвать у него мелочное брюзжание, неверие в свои силы. Пустота души, то, что а человеке нет веры ни во что,- самый страшный порок — я уже когда-то писал тебе об этом, повторяю еще раз. Пустая душа жадно впитывает плохое и трудно поддается влиянию хорошего, потому что пустота, духовная убогость уже сами по себе являются пороками. Тот, у кого пустая душа, не может быть настоящим другом, он не чувствует человечности в дружбе. Жизнь убедила меня, что если в годы отрочества и ранней юности человека воодушевляет нравственный идеал, если человек понимает, что такое правильный человек, то дружба духовно обогащает его, в дружбе он ищет не провождения времени, а поле для самоутверждения и самовоспитания. Особенно необходима эта благородная духовная потребность — потребность в человеке для формирования мужчины.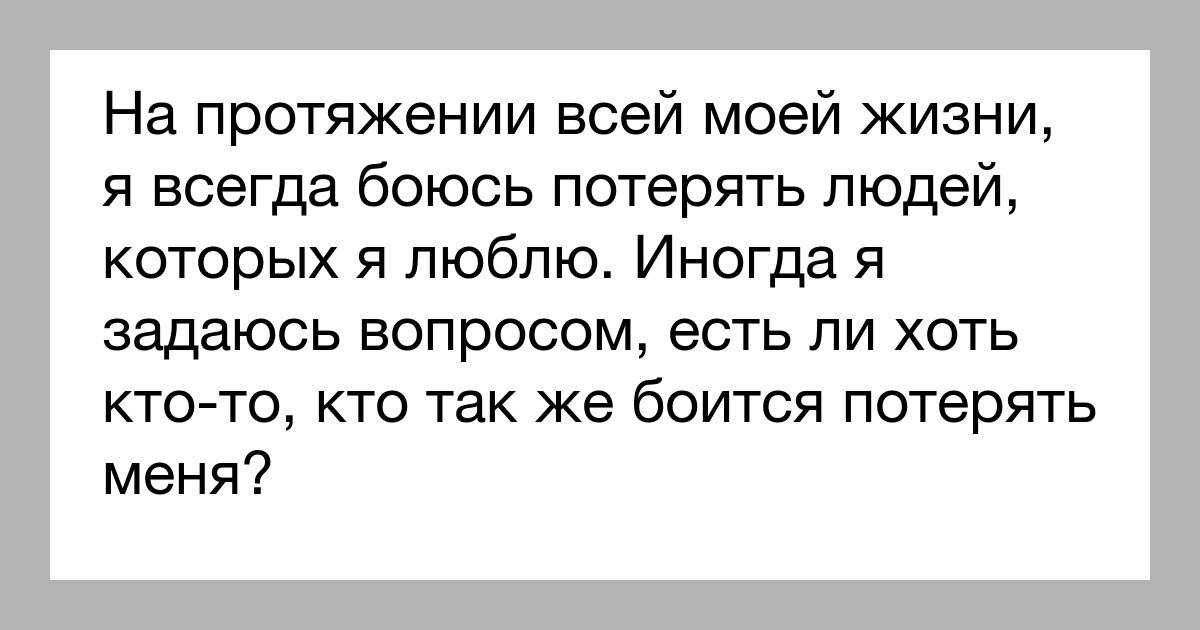 Чтобы стать настоящим мужчиной, ты вот в эти годы ранней юности должен раскрыть богатства души в дружбе. От этого зависит чистота твоего чувства любви, счастье твоей будущей семьи.
Чтобы стать настоящим мужчиной, ты вот в эти годы ранней юности должен раскрыть богатства души в дружбе. От этого зависит чистота твоего чувства любви, счастье твоей будущей семьи.
Любовь без дружбы мелка. Если юноша уважает в девушке прежде всего человека, то эта возвышенная, благородная дружба сама по себе так же прекрасна, как и любовь. Люди, надеющиеся построить духовную общность на любви как на половом влечении, как раз и не дорожат любовью, потому что стремятся втиснуть весь мир духовной жизни в поцелуи и в ревность. Любовь без высшей духовной жизни — без стремления к единому идеалу, без дружбы во имя этого — может превратиться в чувственное наслаждение. Запиши себе в записную книжку слова В. Г. Белинского, читай их наедине, вдумайся в них, проверь сам себя: “Любовь — поэзия и солнце жизни. Но горе тому, кто в наше время здание счастья своего вздумает построить на одной только любви и в жизни сердца вознадеется найти полное удовлетворение всем своим стремлениям…” “Если б вся цель нашей жизни состояла только в нашем личном счастье, а наше личное счастье заключалось бы только в одной любви: тогда жизнь была бы действительно мрачною пустынею, заваленною гробами и разбитыми сердцами, была бы адом, перед страшною существенностью которого побледнели бы поэтические образы земного ада, начертанные гением сурового Данте” [18].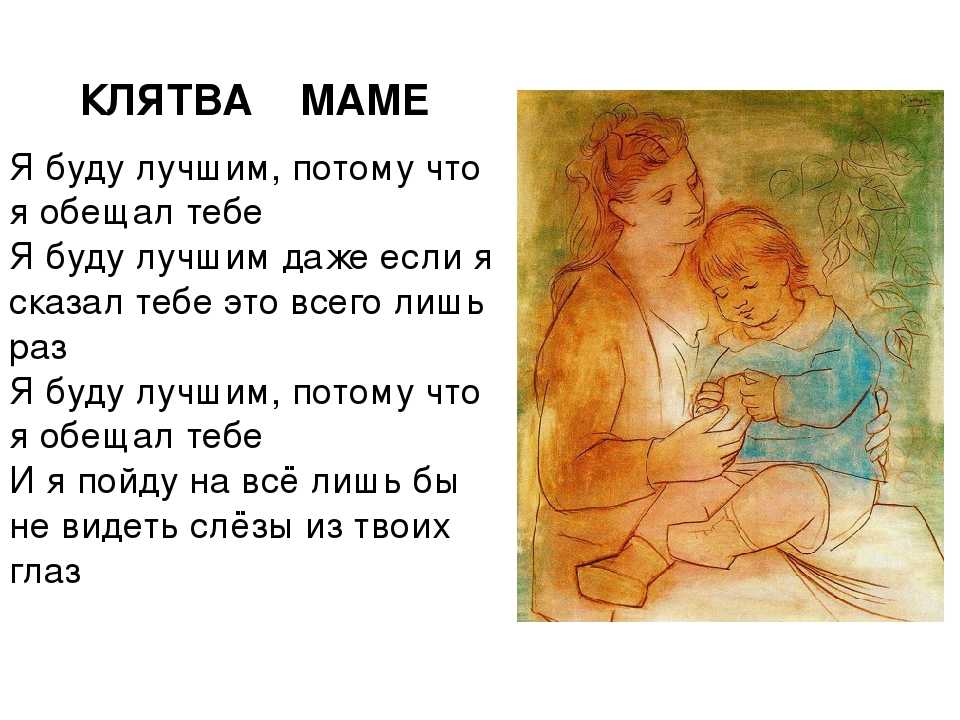 Вдумайся в это: жизнь была бы адом, если бы счастье заключалось только в любви. Если ограничиться личным счастьем невозможно было во времена Белинского, то сделать это в наше время — все равно, что обречь себя на одиночество и бездеятельность, сузить свой мир до субъективных чувств и переживаний. Если уже в свое время Белинский видел, что, “кроме внутреннего мира сердца”, есть “великий мир жизни”, тот великий мир, где “мысль становится делом, а высокое чувствование — подвигом”,[19] то в наше время такой мир открылся не для отдельных борцов, а для всего народа. Половое влечение только тогда и стало приобретать характер нравственной связи между людьми, морального долга, когда, кроме внешней красоты, перед человеком открылось внутреннее богатство человека — достоинство личности, ее способности, творчество, общественная деятельность. Счастье, построенное на половом влечении,- это животная страсть, делающая человека слепым и безрассудным.
Вдумайся в это: жизнь была бы адом, если бы счастье заключалось только в любви. Если ограничиться личным счастьем невозможно было во времена Белинского, то сделать это в наше время — все равно, что обречь себя на одиночество и бездеятельность, сузить свой мир до субъективных чувств и переживаний. Если уже в свое время Белинский видел, что, “кроме внутреннего мира сердца”, есть “великий мир жизни”, тот великий мир, где “мысль становится делом, а высокое чувствование — подвигом”,[19] то в наше время такой мир открылся не для отдельных борцов, а для всего народа. Половое влечение только тогда и стало приобретать характер нравственной связи между людьми, морального долга, когда, кроме внешней красоты, перед человеком открылось внутреннее богатство человека — достоинство личности, ее способности, творчество, общественная деятельность. Счастье, построенное на половом влечении,- это животная страсть, делающая человека слепым и безрассудным. Для того чтобы любовь стала для человека подвигом, он должен достигнуть высокой ступени морального развития: прежде всего определить высокую цель своей жизни, воодушевиться мыслью о преодолении трудностей на пути к достижению цели. Когда борьба за достижение высокой цели становится подлинной страстью, то любовная, половая страсть теряет характер цели, любимый человек становится другом в этой борьбе. Страсть любви перестает быть целью и облагораживает человека, возвышает его над чувственными страстями. Понимание истинных масштабов счастья личного и счастья общечеловеческого нисколько не унижает человека, не угнетает его, а наоборот-возвышает, так как пробуждает у него стремление обогатить всю жизнь высокими духовными интересами.
Для того чтобы любовь стала для человека подвигом, он должен достигнуть высокой ступени морального развития: прежде всего определить высокую цель своей жизни, воодушевиться мыслью о преодолении трудностей на пути к достижению цели. Когда борьба за достижение высокой цели становится подлинной страстью, то любовная, половая страсть теряет характер цели, любимый человек становится другом в этой борьбе. Страсть любви перестает быть целью и облагораживает человека, возвышает его над чувственными страстями. Понимание истинных масштабов счастья личного и счастья общечеловеческого нисколько не унижает человека, не угнетает его, а наоборот-возвышает, так как пробуждает у него стремление обогатить всю жизнь высокими духовными интересами.
Понимание соразмерности личных чувств и счастья человечества предохраняет от того, чтобы отдельные неурядицы, мелкие споры не превратились в трагедию и не отравляли жизнь. Сколько таких “трагедий”, достойных сожаления, унижающих человеческое достоинство, можно наблюдать в жизни. Сколько “безвыходных положений” и “неразрешимых противоречий” создается в молодых семьях лишь потому, что люди делают из своей любви маленькую вселенную, в которой, понятно, на каждом шагу тупики, нет простора для широких, благородных движений души. Помни это, пусть ’ тебе будет это заповедью будущей семейной жизни: там, где духовная жизнь молодых мужа и жены начинается и кончается любовью, по малейшему поводу разыгрывается честолюбие; оскорбленные супруги из-за пустяков неделями не говорят друг с другом, бередят свои сердца мелкими царапинами и умышленно посыпают их солью мелкого гнева. При этом все эти “трагедии” возводятся в проблему; люди стремятся найти какие-то расхождения во взглядах, несходство в характере и т. д. Такие люди по существу не готовы к духовно-психологическому общению, им не следовало бы вступать в брак до тех пор, пока они не определят масштабов своего личного счастья.
Сколько таких “трагедий”, достойных сожаления, унижающих человеческое достоинство, можно наблюдать в жизни. Сколько “безвыходных положений” и “неразрешимых противоречий” создается в молодых семьях лишь потому, что люди делают из своей любви маленькую вселенную, в которой, понятно, на каждом шагу тупики, нет простора для широких, благородных движений души. Помни это, пусть ’ тебе будет это заповедью будущей семейной жизни: там, где духовная жизнь молодых мужа и жены начинается и кончается любовью, по малейшему поводу разыгрывается честолюбие; оскорбленные супруги из-за пустяков неделями не говорят друг с другом, бередят свои сердца мелкими царапинами и умышленно посыпают их солью мелкого гнева. При этом все эти “трагедии” возводятся в проблему; люди стремятся найти какие-то расхождения во взглядах, несходство в характере и т. д. Такие люди по существу не готовы к духовно-психологическому общению, им не следовало бы вступать в брак до тех пор, пока они не определят масштабов своего личного счастья. Несколько недель назад прокурор нашего района рассказал мне об одном бракоразводном деле. Молодые люди пожили две недели, и вот счастье “медового месяца” омрачилось ссорой. Повод для ссоры был смехотворным: супруги не могли единодушно решить, где поставить телевизор… Ссора разгоралась, оба пришли к выводу, что характеры у них настолько разные, что семейная жизнь будет невозможной. На суде мудрая женщина-народный заседатель- стала, как говорится, по ниточке добираться до клубочка; супруги с трудом вспомнили, с чего началась ссора, и им стало стыдно. Вот до чего может дойти человек, если мелочи гипертрофируются, превращаются в “мировые проблемы”, если нет перед мысленным взором никакой высокой цели. Самое важное и самое трудное для человека — всегда, во всех обстоятельствах оставаться человеком. Будь всегда человеком. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
Несколько недель назад прокурор нашего района рассказал мне об одном бракоразводном деле. Молодые люди пожили две недели, и вот счастье “медового месяца” омрачилось ссорой. Повод для ссоры был смехотворным: супруги не могли единодушно решить, где поставить телевизор… Ссора разгоралась, оба пришли к выводу, что характеры у них настолько разные, что семейная жизнь будет невозможной. На суде мудрая женщина-народный заседатель- стала, как говорится, по ниточке добираться до клубочка; супруги с трудом вспомнили, с чего началась ссора, и им стало стыдно. Вот до чего может дойти человек, если мелочи гипертрофируются, превращаются в “мировые проблемы”, если нет перед мысленным взором никакой высокой цели. Самое важное и самое трудное для человека — всегда, во всех обстоятельствах оставаться человеком. Будь всегда человеком. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Ты просишь “научить, как же уважать в девушке женственность”, просишь разъяснить, что такое женственность. Я очень рад, что это тебя волнует. Помни, что отношение к женщине является мерой нравственности. . “На основании этого отношения,- писал К. Маркс,- можно, следовательно, судить о ступени общей культуры человека” [20]. Хам в отношении к женщине — хам во всех отношениях. Женственность — это самое высокое выражение человеческой красоты, в этой красоте — рождение новой жизни, развитие, цветение и увядание того, что было прекрасно. Носитель и творец жизни, женщина глубже всего воплощает высоконравственное отношение к будущему человечества. Уважать женщину — это значит уважать жизнь. Подлинная женственность как сочетание красоты духа и тела родилась в трудовом народе. Кроме красоты, в представление о женственности трудовой народ вложил также мысль о женской слабости как о моральном праве на уважение и заботу со стороны мужчины. Женская красота все больше становится повелительницей человеческой красоты вообще.
Я очень рад, что это тебя волнует. Помни, что отношение к женщине является мерой нравственности. . “На основании этого отношения,- писал К. Маркс,- можно, следовательно, судить о ступени общей культуры человека” [20]. Хам в отношении к женщине — хам во всех отношениях. Женственность — это самое высокое выражение человеческой красоты, в этой красоте — рождение новой жизни, развитие, цветение и увядание того, что было прекрасно. Носитель и творец жизни, женщина глубже всего воплощает высоконравственное отношение к будущему человечества. Уважать женщину — это значит уважать жизнь. Подлинная женственность как сочетание красоты духа и тела родилась в трудовом народе. Кроме красоты, в представление о женственности трудовой народ вложил также мысль о женской слабости как о моральном праве на уважение и заботу со стороны мужчины. Женская красота все больше становится повелительницей человеческой красоты вообще. Если женщина понимает и ценит в себе свою особую роль в становлении новой жизни, она не может быть некрасивой. Сколько есть девушек, не обладающих броской внешней красотой, но в то же время очаровывающих своей обаятельностью именно потому, что они женственны. Умей видеть и ценить прежде всего эту женскую красоту. Женственность — это высшее воплощение нравственной чистоты и благородства, высокого человеческого достоинства. Эти черты проявляются в целомудренном отношении ко всему, что связано с ее нравственно-эстетическими отношениями с мужчиной. Неуважение мужчины ко всему, что составляет интимную сторону этих отношений, глубоко оскорбляет высоконравственную женщину. С наступлением материнства женственность расцветает во всей своей силе и красоте. Помни, что чем выше нравственность мужчины, тем больше в отношениях с ним задает тон женщина, разумно используя свою женственность для усиления своего нравственного авторитета в семье.
Если женщина понимает и ценит в себе свою особую роль в становлении новой жизни, она не может быть некрасивой. Сколько есть девушек, не обладающих броской внешней красотой, но в то же время очаровывающих своей обаятельностью именно потому, что они женственны. Умей видеть и ценить прежде всего эту женскую красоту. Женственность — это высшее воплощение нравственной чистоты и благородства, высокого человеческого достоинства. Эти черты проявляются в целомудренном отношении ко всему, что связано с ее нравственно-эстетическими отношениями с мужчиной. Неуважение мужчины ко всему, что составляет интимную сторону этих отношений, глубоко оскорбляет высоконравственную женщину. С наступлением материнства женственность расцветает во всей своей силе и красоте. Помни, что чем выше нравственность мужчины, тем больше в отношениях с ним задает тон женщина, разумно используя свою женственность для усиления своего нравственного авторитета в семье. В хорошей семье женщина-мать вообще является нравственным руководителем и повелителе?.!, и чем больше покоряется ее воле муж-отец, тем лучше для воспитания детей. Это ты должен, как говорится, зарубить себе на носу. Женственность — это духовная сила женщины, сила, воспитывающая не только детей, но и мужа. Ты хорошо видишь и понимаешь это на примере нашей семьи. Если бы не мать, вы, дети, не были бы чуткими к добру и злу, человечными, отзывчивыми. Природа и исторический процесс развития человечества возложили на женщину более тонкую, более изящную работу, чем на мужчину. И нет ничего удивительного, что в женщине нам нравится физическая слабость. Но эта черта приобретает положительный оттенок лишь тогда, когда физическая слабость сочетается с большой духовной силой. В этом сочетании — обаяние женственности. Волевая стойкость, последовательность, единство слова и дела в управлении семьей, в воспитании — и детей, и мужа — все это обеспечивает ведущую роль женщины-матери в утверждении доброго имени семьи.
В хорошей семье женщина-мать вообще является нравственным руководителем и повелителе?.!, и чем больше покоряется ее воле муж-отец, тем лучше для воспитания детей. Это ты должен, как говорится, зарубить себе на носу. Женственность — это духовная сила женщины, сила, воспитывающая не только детей, но и мужа. Ты хорошо видишь и понимаешь это на примере нашей семьи. Если бы не мать, вы, дети, не были бы чуткими к добру и злу, человечными, отзывчивыми. Природа и исторический процесс развития человечества возложили на женщину более тонкую, более изящную работу, чем на мужчину. И нет ничего удивительного, что в женщине нам нравится физическая слабость. Но эта черта приобретает положительный оттенок лишь тогда, когда физическая слабость сочетается с большой духовной силой. В этом сочетании — обаяние женственности. Волевая стойкость, последовательность, единство слова и дела в управлении семьей, в воспитании — и детей, и мужа — все это обеспечивает ведущую роль женщины-матери в утверждении доброго имени семьи. У многих мужчин где-то в глубине души таятся остатки феодала, это есть и у юношей, с этим надо бороться. Женится молодой человек, получает хорошую зарплату — и сразу же требует, чтобы женщина оставила работу. И считает, что он делает для жены большое благо. Женщину поглощает мелочный, отупляющий труд на кухне, делающий ее, по словам В. И. Ленина, домашней рабыней[21]. Сильные духом, волевые женщины не допускают этого. Слабоволие, отсутствие духовной стойкости отдельных жен проявляется нередко в том, что жена добровольно соглашается на интеллектуальное первенство мужа: он повышает свои знания, учится, а жена обслуживает его потребности. В этом — опасность не только для женщины, но и для мужчины. Как огня, бойся того, чтобы твоя будущая жена чувствовала твое превосходство, одобряла его… Утверждение, расцвет женственности в огромной мере зависит от того, как развивается разум жены, насколько далеко выходит она за пределы быта семьи.
У многих мужчин где-то в глубине души таятся остатки феодала, это есть и у юношей, с этим надо бороться. Женится молодой человек, получает хорошую зарплату — и сразу же требует, чтобы женщина оставила работу. И считает, что он делает для жены большое благо. Женщину поглощает мелочный, отупляющий труд на кухне, делающий ее, по словам В. И. Ленина, домашней рабыней[21]. Сильные духом, волевые женщины не допускают этого. Слабоволие, отсутствие духовной стойкости отдельных жен проявляется нередко в том, что жена добровольно соглашается на интеллектуальное первенство мужа: он повышает свои знания, учится, а жена обслуживает его потребности. В этом — опасность не только для женщины, но и для мужчины. Как огня, бойся того, чтобы твоя будущая жена чувствовала твое превосходство, одобряла его… Утверждение, расцвет женственности в огромной мере зависит от того, как развивается разум жены, насколько далеко выходит она за пределы быта семьи.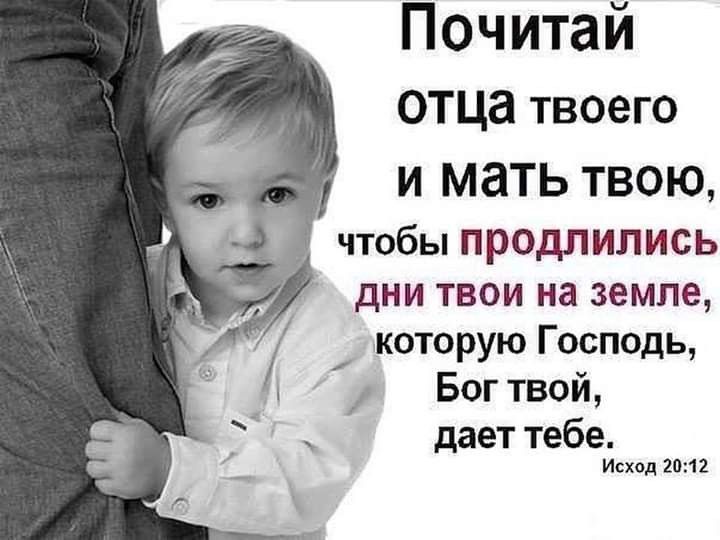 Умный муж стремится как раз к тому, чтобы его жена жила богатой интеллектуальной жизнью, к ее равенству и даже первенству в интеллектуальной жизни семьи. Если жена умеет пользоваться своим превосходством для утверждения своего нравственного авторитета в семье,- ее женственность возрастает, в глазах мужа она приобретает особенно сильное обаяние, никогда не теряет своей прелести и внутренней одухотворенности красота ее глаз, лица… Свой ум, свой интеллектуальный рост она использует как одно из важнейших средств воздействия на мужа и на детей. Я знаю умную, волевую женщину, которая, имея начальное образование, вышла замуж за агронома — человека с высшим образованием. Она не только не отстала от мужа, но, наоборот, благодаря своей настойчивости завоевала прочное интеллектуальное первенство в семье. С первых дней семейной жизни она начала читать научно-популярную литературу по агротехнике, почвоведению, химии, а также художественную литературу.
Умный муж стремится как раз к тому, чтобы его жена жила богатой интеллектуальной жизнью, к ее равенству и даже первенству в интеллектуальной жизни семьи. Если жена умеет пользоваться своим превосходством для утверждения своего нравственного авторитета в семье,- ее женственность возрастает, в глазах мужа она приобретает особенно сильное обаяние, никогда не теряет своей прелести и внутренней одухотворенности красота ее глаз, лица… Свой ум, свой интеллектуальный рост она использует как одно из важнейших средств воздействия на мужа и на детей. Я знаю умную, волевую женщину, которая, имея начальное образование, вышла замуж за агронома — человека с высшим образованием. Она не только не отстала от мужа, но, наоборот, благодаря своей настойчивости завоевала прочное интеллектуальное первенство в семье. С первых дней семейной жизни она начала читать научно-популярную литературу по агротехнике, почвоведению, химии, а также художественную литературу. Она понимала, что духовное общение с мужем будет зависеть от того, насколько она сможет помогать ему, жить его интересами, больше того — оказывать влияние на его интеллектуальную жизнь. Природный ум помогал ей не только разбираться в прочитанном, понимать мысли и затруднения мужа, но и проявлять творческое отношение к земледелию. Некоторые ее советы изумляли мужа проницательностью, знанием дела, этому во многом способствовало и то, что она была умной, думающей труженицей. Работая в звене свекловодов, она свободное время отдавала книге. Круг ее интеллектуальных интересов все больше расширялся. Один за другим пошли в школу двое детей. В начальных классах матери легко было помогать им учиться. Когда дети стали изучать алгебру, химию, геометрию, мать почувствовала, что неумение оказать помощь может ослабить ее нравственное влияние на детей,- они ведь привыкли, что мать все знает, все умеет. Она решила ни на шаг не отставать от детей.
Она понимала, что духовное общение с мужем будет зависеть от того, насколько она сможет помогать ему, жить его интересами, больше того — оказывать влияние на его интеллектуальную жизнь. Природный ум помогал ей не только разбираться в прочитанном, понимать мысли и затруднения мужа, но и проявлять творческое отношение к земледелию. Некоторые ее советы изумляли мужа проницательностью, знанием дела, этому во многом способствовало и то, что она была умной, думающей труженицей. Работая в звене свекловодов, она свободное время отдавала книге. Круг ее интеллектуальных интересов все больше расширялся. Один за другим пошли в школу двое детей. В начальных классах матери легко было помогать им учиться. Когда дети стали изучать алгебру, химию, геометрию, мать почувствовала, что неумение оказать помощь может ослабить ее нравственное влияние на детей,- они ведь привыкли, что мать все знает, все умеет. Она решила ни на шаг не отставать от детей.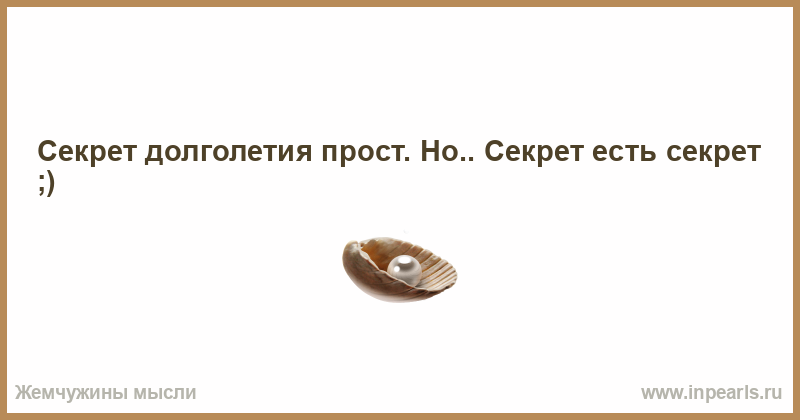 Это делалось так умело, что дети были убеждены: не она учится у них, а они у нее. Она изучила все предметы средней школы. Стало прочным ее положение интеллектуального главы семьи. Все это стоило женщине огромных усилий. Кое-кто из женщин истолковывал ее стремление к знаниям по-своему: Мария Д. старается не отстать от мужа, чтобы не потерять его. В этом обывательском толковании очень сложного явления есть доля истины, но только истины не с той стороны. Благодаря высоко развитому чувству человеческого достоинства Мария Д. понимала, что для духовного богатства, красоты, полноценности семейной жизни ей надо быть женщиной, обладающей обаянием, вызывающей уважение. Она понимала, что красота, не одухотворенная внутренним богатством, вскоре поблекнет в глазах мужа. Женщина правильно определила ту сферу, рост в которой может поставить ее в центр духовной жизни семьи,- сферу интеллектуальных интересов. Благодаря этому в ней на всю жизнь сохранилась обаятельность женщины.
Это делалось так умело, что дети были убеждены: не она учится у них, а они у нее. Она изучила все предметы средней школы. Стало прочным ее положение интеллектуального главы семьи. Все это стоило женщине огромных усилий. Кое-кто из женщин истолковывал ее стремление к знаниям по-своему: Мария Д. старается не отстать от мужа, чтобы не потерять его. В этом обывательском толковании очень сложного явления есть доля истины, но только истины не с той стороны. Благодаря высоко развитому чувству человеческого достоинства Мария Д. понимала, что для духовного богатства, красоты, полноценности семейной жизни ей надо быть женщиной, обладающей обаянием, вызывающей уважение. Она понимала, что красота, не одухотворенная внутренним богатством, вскоре поблекнет в глазах мужа. Женщина правильно определила ту сферу, рост в которой может поставить ее в центр духовной жизни семьи,- сферу интеллектуальных интересов. Благодаря этому в ней на всю жизнь сохранилась обаятельность женщины.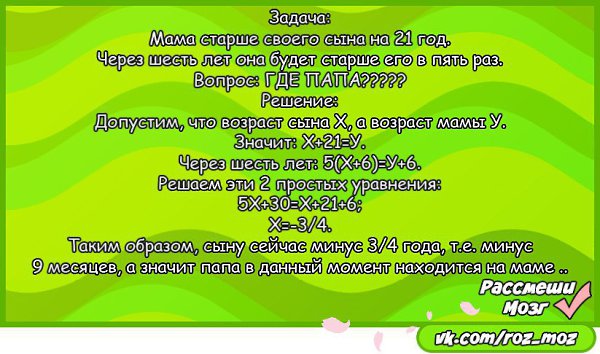 Если ты хочешь, чтобы твоя будущая жена на всю жизнь осталась для тебя единственным любимым существом,- построй жизнь так, чтобы духовное богатство твоей жены постоянно обогащалось. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя.
Если ты хочешь, чтобы твоя будущая жена на всю жизнь осталась для тебя единственным любимым существом,- построй жизнь так, чтобы духовное богатство твоей жены постоянно обогащалось. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя.
Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Ты побуждаешь меня писать целые трактаты. Сперва о дружбе и любви, потом — о женственности, теперь же ты просишь сказать отцовское слово о красоте. Ну, что же, я скажу, только пусть мои слова останутся в твоем сознании на всю жизнь. С того времени как человек стал человеком, с того мгновенья, когда он засмотрелся на красоту вечерней зари, он стал всматриваться в самого себя. Красота — это глубоко человеческое. Это радость нашей жизни. Человек стал Человеком потому, что увидел глубину лазурного неба, мерцание звезд, розовый разлив вечерней зари, багровый закат перед ветреным днем, трепетанье марева над горизонтом, бесконечную даль степей, синие тени в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом небе, отражение солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в пасмурный осенний день, фиолетовое облачко на кусте сирени, нежный стебелек и голубой колокольчик подснежника — увидел и, изумленный, пошел по земле, создавая новую красоту. Остановись и ты в изумлении перед красотой — ив твоем сердце расцветет благородство. Высшая красота — в человеке, вершина человеческой красоты — это красота женщины. Восторженное отношение к женской красоте воплотили в бессмертных художественных образах великие поэты Гомер, Данте, Шекспир, Гете, Пушкин, Шевченко, Мицкевич. Целомудренно воспетая ими красота женщин, в которых они сами были влюблены, стала мерилом нравственности чувства любви для многих поколений. Красота женщины — не порождена половым инстинктом и не является чем-то неотделимым от половых потребностей. Запиши себе в записную книжку и запомни слова Белинского: “Вот прекрасная молодая женщина: в чертах лица ее вы не находите никакого определенного выражения — это не олицетворение чувства, души, доброты, любви, самоотвержения, возвышенности мыслей и стремлений… Оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью ‑и больше ничего; вы не влюблены в эту женщину и чужды желания быть любимым ею, вы спокойно любуетесь прелестью ее движений, грациею ее манер,- и в то же время, в ее присутствии сердце ваше бьется как-то живее, и кроткая гармония счастья мгновенно разливается в душе вашей”[22].
Остановись и ты в изумлении перед красотой — ив твоем сердце расцветет благородство. Высшая красота — в человеке, вершина человеческой красоты — это красота женщины. Восторженное отношение к женской красоте воплотили в бессмертных художественных образах великие поэты Гомер, Данте, Шекспир, Гете, Пушкин, Шевченко, Мицкевич. Целомудренно воспетая ими красота женщин, в которых они сами были влюблены, стала мерилом нравственности чувства любви для многих поколений. Красота женщины — не порождена половым инстинктом и не является чем-то неотделимым от половых потребностей. Запиши себе в записную книжку и запомни слова Белинского: “Вот прекрасная молодая женщина: в чертах лица ее вы не находите никакого определенного выражения — это не олицетворение чувства, души, доброты, любви, самоотвержения, возвышенности мыслей и стремлений… Оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью ‑и больше ничего; вы не влюблены в эту женщину и чужды желания быть любимым ею, вы спокойно любуетесь прелестью ее движений, грациею ее манер,- и в то же время, в ее присутствии сердце ваше бьется как-то живее, и кроткая гармония счастья мгновенно разливается в душе вашей”[22].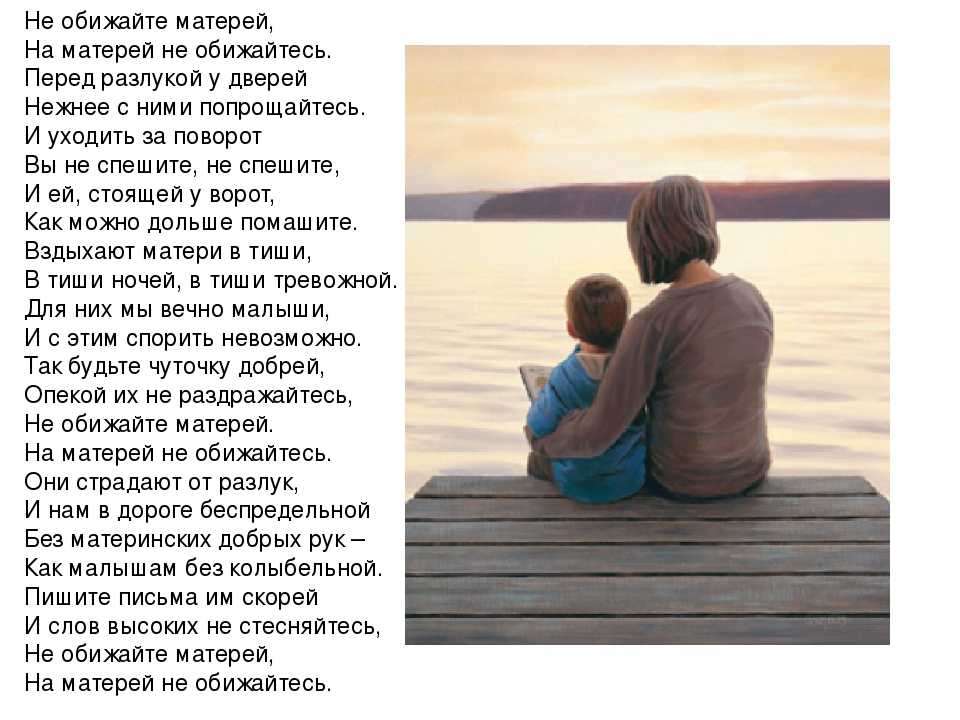 Во внешней человеческой красоте воплощены наши представления об идеале прекрасного. Внешняя красота — это не только антропологическое совершенство всех элементов тела, не только здоровье. Это внутренняя одухотворенность — богатый мир мыслей и чувств, нравственного достоинства, уважения к людям и к себе, скромность. Средоточие духовной жизни, зеркало мысли, выразитель чувств — человеческие глаза. Чем выше нравственное развитие и общий уровень духовной культуры человека, тем ярче отражается внутренний духовный мир во внешних чертах. Единство внутренней и внешней красоты-это эстетическое выражение нравственного достоинства человека. Нет ничего зазорного в том, что человек стремится быть красивым, хочет выглядеть красивым. Но, мне кажется (как думаешь ты?), надо иметь моральное право на это желание. Нравственность этого стремления определяется тем, в какой мере эта красота выражает творческую, деятельную сущность человека.
Во внешней человеческой красоте воплощены наши представления об идеале прекрасного. Внешняя красота — это не только антропологическое совершенство всех элементов тела, не только здоровье. Это внутренняя одухотворенность — богатый мир мыслей и чувств, нравственного достоинства, уважения к людям и к себе, скромность. Средоточие духовной жизни, зеркало мысли, выразитель чувств — человеческие глаза. Чем выше нравственное развитие и общий уровень духовной культуры человека, тем ярче отражается внутренний духовный мир во внешних чертах. Единство внутренней и внешней красоты-это эстетическое выражение нравственного достоинства человека. Нет ничего зазорного в том, что человек стремится быть красивым, хочет выглядеть красивым. Но, мне кажется (как думаешь ты?), надо иметь моральное право на это желание. Нравственность этого стремления определяется тем, в какой мере эта красота выражает творческую, деятельную сущность человека. Ярче всего красота человека проявляется тогда, когда он занят любимой деятельностью, которая по своему характеру подчеркивает в нем что-то хорошее, свойственное его личности. При этом его внешний облик как бы озарен внутренним вдохновением. Не случайно красоту дискобола Мирон [23] воплотил в момент, когда напряжение внутренних духовных сил сочетается с напряжением сил физических, в этом сочетании — апофеоз красоты. В девушке, помыслы которой‑о творчестве, красота ярче и глубже, чем в такой же девушке, изнывающей от безделия. Безделие-враг красоты, помни это, сын. Красив человек труда-комбайнер, тракторист, летчик за штурвалом своей машины, садовод у любимого дерева. Внутренняя духовная красота озаряет лицо ученого, мыслителя, поэта, изобретателя в момент, когда разум воодушевлен, озарен светом творчества. Если хочешь быть красивым — трудись до самозабвения, трудись так, чтобы ты почувствовал себя творцом, мастером, господином в любимом деле.
Ярче всего красота человека проявляется тогда, когда он занят любимой деятельностью, которая по своему характеру подчеркивает в нем что-то хорошее, свойственное его личности. При этом его внешний облик как бы озарен внутренним вдохновением. Не случайно красоту дискобола Мирон [23] воплотил в момент, когда напряжение внутренних духовных сил сочетается с напряжением сил физических, в этом сочетании — апофеоз красоты. В девушке, помыслы которой‑о творчестве, красота ярче и глубже, чем в такой же девушке, изнывающей от безделия. Безделие-враг красоты, помни это, сын. Красив человек труда-комбайнер, тракторист, летчик за штурвалом своей машины, садовод у любимого дерева. Внутренняя духовная красота озаряет лицо ученого, мыслителя, поэта, изобретателя в момент, когда разум воодушевлен, озарен светом творчества. Если хочешь быть красивым — трудись до самозабвения, трудись так, чтобы ты почувствовал себя творцом, мастером, господином в любимом деле. Трудись так, чтобы глаза твои выражали одухотворенность великим человеческим счастьем — счастьем творчества. Красота — спутник вдохновенья. У О. Гончара есть прекрасная новелла — “Подсолнечники”. В ней рассказывается о скульпторе, которому поручили изваять бюст девушки мастера высоких урожаев подсолнечника. Лицо девушки поразило мастера некрасивостью. Оно не вдохновляло, и скульптор отказался от работы. По дороге на станцию ему пришлось ехать мимо поля цветущих подсолнечников. Здесь он увидел и свою героиню — она работала. Но теперь ее лицо выглядело другим. Оно было озарено ощущением красоты труда, во внешних чертах светилась красота внутренняя. “Она красива!”-воскликнул художник, в своем воображении он уже лепил черты лица девушки.
Трудись так, чтобы глаза твои выражали одухотворенность великим человеческим счастьем — счастьем творчества. Красота — спутник вдохновенья. У О. Гончара есть прекрасная новелла — “Подсолнечники”. В ней рассказывается о скульпторе, которому поручили изваять бюст девушки мастера высоких урожаев подсолнечника. Лицо девушки поразило мастера некрасивостью. Оно не вдохновляло, и скульптор отказался от работы. По дороге на станцию ему пришлось ехать мимо поля цветущих подсолнечников. Здесь он увидел и свою героиню — она работала. Но теперь ее лицо выглядело другим. Оно было озарено ощущением красоты труда, во внешних чертах светилась красота внутренняя. “Она красива!”-воскликнул художник, в своем воображении он уже лепил черты лица девушки.
Внешняя красота имеет свои внутренние, нравственные истоки. Любимое творчество делает человека красивым, преобразует черты лица — делает их тонкими, выразительными. Красоту создают беспокойство, забота — то, что обычно называют “муками творчества”. Как горе откладывает на лице неизгладимые морщины, так и творческие заботы являются самым тонким, самым искусным скульптором, который делает лицо красивым. И наоборот, внутренняя пустота придает внешним чертам лица выражение тупого равнодушия, невыразительности. Если внутреннее духовное богатство создает человеческую красоту, то бездеятельность, а тем более безнравственная деятельность эту красоту губит. Когда соприкасаешься с многими молодыми людьми в большом коллективе, то среди ярких, запоминающихся лиц видишь лица, которые ничем не привлекают внимания — они мелькают, но не запоминаются. Духовная пустота делает безликой внешность человека. Безнравственная деятельность уродует. Привычка лгать, лицемерить, пустословить постепенно создает блуждающий взгляд: человек избегает прямо смотреть в глаза другим людям; в его глазах трудно увидеть мысль, он прячет ее.
Красоту создают беспокойство, забота — то, что обычно называют “муками творчества”. Как горе откладывает на лице неизгладимые морщины, так и творческие заботы являются самым тонким, самым искусным скульптором, который делает лицо красивым. И наоборот, внутренняя пустота придает внешним чертам лица выражение тупого равнодушия, невыразительности. Если внутреннее духовное богатство создает человеческую красоту, то бездеятельность, а тем более безнравственная деятельность эту красоту губит. Когда соприкасаешься с многими молодыми людьми в большом коллективе, то среди ярких, запоминающихся лиц видишь лица, которые ничем не привлекают внимания — они мелькают, но не запоминаются. Духовная пустота делает безликой внешность человека. Безнравственная деятельность уродует. Привычка лгать, лицемерить, пустословить постепенно создает блуждающий взгляд: человек избегает прямо смотреть в глаза другим людям; в его глазах трудно увидеть мысль, он прячет ее.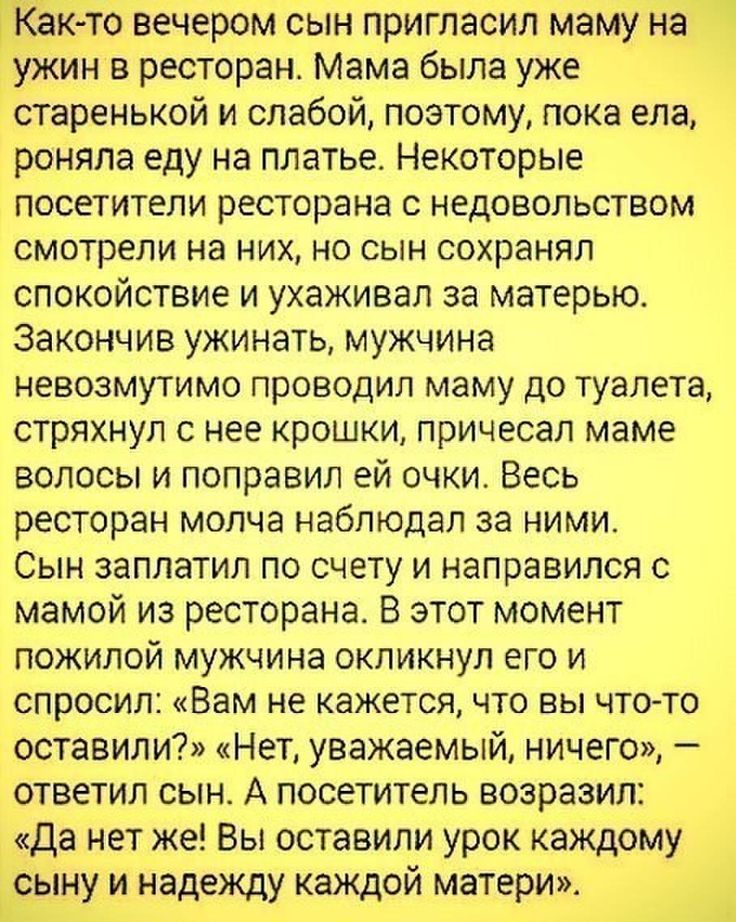 Подхалимство, угодничество не только придают выражение подобострастия глазам, лицу, но накладывают отпечаток на всю внешность. Быть самим собой, дорожить своим достоинством — это живая кровь подлинной человеческой красоты. Идеал человеческой красоты — это вместе с тем и идеал нравственности. Единство физического, нравственного, эстетического совершенства — это и есть та гармония, о которой так много говорится. Нельзя сделать прекрасной нашу жизнь, не сделав прекрасным человека и одно из самых благородных человеческих чувств — любовь. Вершиной общечеловеческой красоты будет то, что каждый из миллионов членов нашего общества, говоря образно, засверкает своей внутренней красотой. Я твердо убежден, что при коммунизме все люди будут красивыми. Иначе и быть не может, потому что внутренняя и внешняя красота будут расцветать одновременно. Ты ‑творец собственной духовной красоты. От тебя же зависит красота людей, живущих с тобой рядом.
Подхалимство, угодничество не только придают выражение подобострастия глазам, лицу, но накладывают отпечаток на всю внешность. Быть самим собой, дорожить своим достоинством — это живая кровь подлинной человеческой красоты. Идеал человеческой красоты — это вместе с тем и идеал нравственности. Единство физического, нравственного, эстетического совершенства — это и есть та гармония, о которой так много говорится. Нельзя сделать прекрасной нашу жизнь, не сделав прекрасным человека и одно из самых благородных человеческих чувств — любовь. Вершиной общечеловеческой красоты будет то, что каждый из миллионов членов нашего общества, говоря образно, засверкает своей внутренней красотой. Я твердо убежден, что при коммунизме все люди будут красивыми. Иначе и быть не может, потому что внутренняя и внешняя красота будут расцветать одновременно. Ты ‑творец собственной духовной красоты. От тебя же зависит красота людей, живущих с тобой рядом.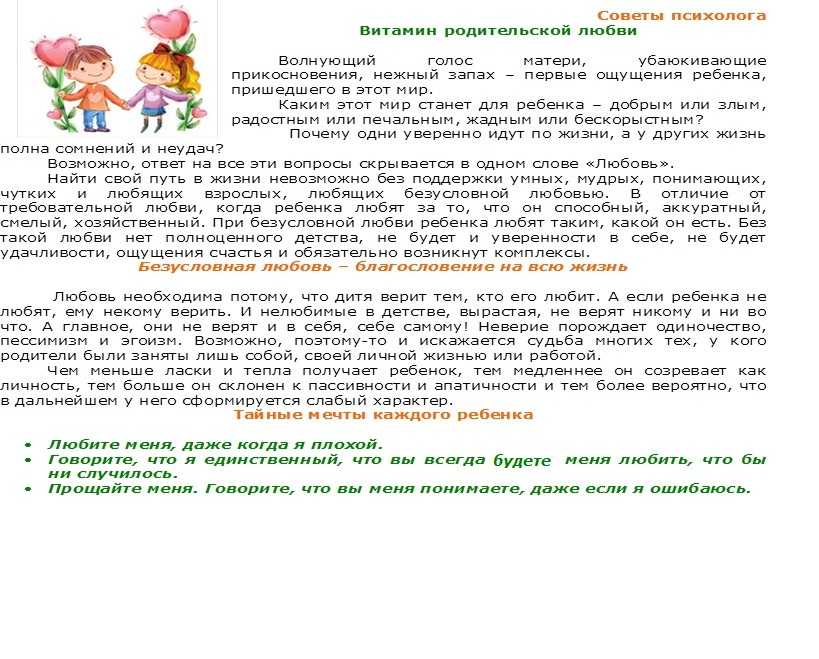 Посылаю тебе “Избранное” Грина. Эту книгу надо читать не только умом, но и сердцем. Читать не только строчки, но и между строчек. Желаю тебе доброго здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
Посылаю тебе “Избранное” Грина. Эту книгу надо читать не только умом, но и сердцем. Читать не только строчки, но и между строчек. Желаю тебе доброго здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Получил твое письмо из колхоза. За пять лет ты хорошо узнаешь сельскую Украину — побываешь по крайней мере в пяти областях. Ты пишешь, что в селе, где вы работаете, судили бывшего полицейского — преступника, который двадцать лет назад истязал советских людей, убивал и мучил партизан, стариков, женщин и детей. Ты удивлен: как это может быть — человек родился в Советской стране, вырос при социализме, и вдруг он становится изменником Родины. Ведь сама жизнь воспитывает! — восклицаешь ты. В том-то и дело, что — в этом я твердо уверен — воспитывает не жизнь сама по себе, а человек. Жизнь только помогает человеку. Расскажу тебе одну историю, из которой ты поймешь, как рождаются отступники… В одном из сел нашего района до недавнего времени жил человек, судьба которого страшна и в то же время поучительна. Это было в начале войны. Кровавый смерч горячим дыханием опалил Украину, с запада ползла фашистская орда, наши войска отступали за Днепр. В тихое августовское утро на главную улицу села, где жил этот человек, приехала колонна вражеских мотоциклистов. Люди спрятались в хаты. Притихшие дети боязливо выглядывали в окна. И вдруг люди увидели невероятное: из хаты вышел этот человек — в вышитой сорочке, в начищенных до блеска сапогах, с хлебом-солью на вышитом полотенце. Заискивающе улыбаясь фашистам, поднес им хлеб-соль, поклонился. Маленький рыжий ефрейтор милостиво принял хлеб-соль, похлопал изменника по плечу, угостил сигаретой. О позорном гостеприимстве узнало все село. Закипела в сердцах лютая ненависть, сжались кулаки. Потом стали думать люди: кто он, этот человек, что привело его на страшный путь предательства? Вспоминали родословную с деда-прадеда, мысленно оглядывая его детство. Как же так, ведь он — двадцатилетний юноша, кажется и комсомолец.
Это было в начале войны. Кровавый смерч горячим дыханием опалил Украину, с запада ползла фашистская орда, наши войска отступали за Днепр. В тихое августовское утро на главную улицу села, где жил этот человек, приехала колонна вражеских мотоциклистов. Люди спрятались в хаты. Притихшие дети боязливо выглядывали в окна. И вдруг люди увидели невероятное: из хаты вышел этот человек — в вышитой сорочке, в начищенных до блеска сапогах, с хлебом-солью на вышитом полотенце. Заискивающе улыбаясь фашистам, поднес им хлеб-соль, поклонился. Маленький рыжий ефрейтор милостиво принял хлеб-соль, похлопал изменника по плечу, угостил сигаретой. О позорном гостеприимстве узнало все село. Закипела в сердцах лютая ненависть, сжались кулаки. Потом стали думать люди: кто он, этот человек, что привело его на страшный путь предательства? Вспоминали родословную с деда-прадеда, мысленно оглядывая его детство. Как же так, ведь он — двадцатилетний юноша, кажется и комсомолец.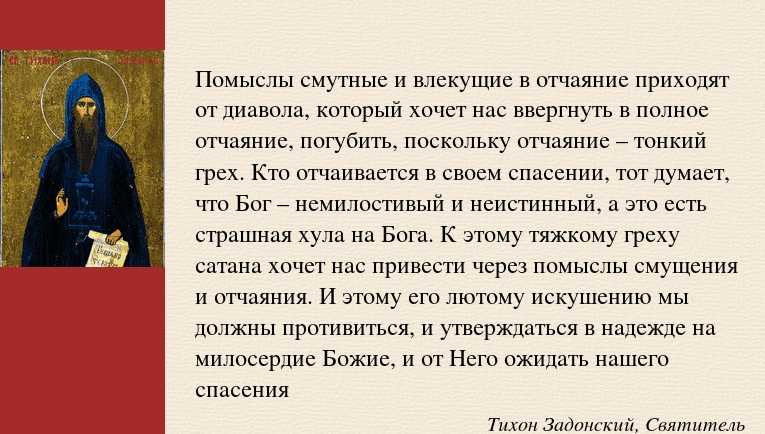 Но постойте, а как же его зовут? Фамилию знали, фамилию-то человек имеет родительскую, а имени никто не знал. Хорошо знали его мать — колхозницу Ярину. И человека этого с детства так и называли: Яринин сын. Стали думать: что же привело парня к предательству? Но о Яринином сыне никто ничего определенного сказать не мог. Соседи называли его маменькиным сынком. Один сын у отца и матери, он жил, как сыр в масле: спал до обеда, а возле кровати на столе стояла уже заботливо приготовленная матерью крынка с молоком, белый калач, сметана… Люди с малых лет приучали детей к труду, будили их на рассвете, посылали в поле на работу, а Ярина оберегала свое “золотко” (так она называла его: мое золотко, мой единственный-ненаглядный), оберегала от труда, от всех забот и тревог. Вот тебе ижизнь воспитывае т… Все зависит от того, куда повернет человек эту жизнь, какой стороной прикоснется она к человеческой душе. В школе учился сынок до шестого класса, потом учение стало в тягость, и мать решила: пусть ребенок не томится за книгой, самое главное — здоровье.
Но постойте, а как же его зовут? Фамилию знали, фамилию-то человек имеет родительскую, а имени никто не знал. Хорошо знали его мать — колхозницу Ярину. И человека этого с детства так и называли: Яринин сын. Стали думать: что же привело парня к предательству? Но о Яринином сыне никто ничего определенного сказать не мог. Соседи называли его маменькиным сынком. Один сын у отца и матери, он жил, как сыр в масле: спал до обеда, а возле кровати на столе стояла уже заботливо приготовленная матерью крынка с молоком, белый калач, сметана… Люди с малых лет приучали детей к труду, будили их на рассвете, посылали в поле на работу, а Ярина оберегала свое “золотко” (так она называла его: мое золотко, мой единственный-ненаглядный), оберегала от труда, от всех забот и тревог. Вот тебе ижизнь воспитывае т… Все зависит от того, куда повернет человек эту жизнь, какой стороной прикоснется она к человеческой душе. В школе учился сынок до шестого класса, потом учение стало в тягость, и мать решила: пусть ребенок не томится за книгой, самое главное — здоровье. До восемнадцати лет болтался сынок без дела, уже стал и на вечерницы ходить, и к девушкам потянуло… Вспоминали, года за два до войны пришла к Ярине мать одной девушки-красавицы, пришла со слезами; какой разговор у них был — никто в точности не знал, известно стало в селе только то, что черноглазая красавица перестала выходить на улицу, потом долго лежала в больнице, пропала девичья краса, потухли огоньки в черных глазах. Узнали соседи, что Ярина отправила свое “золотко” куда-то на дальний хутор к дяде-пасечнику, ходили слухи: живет Яринин сын среди степного раздолья, ест белые калачи с медом, а по вечерам выходит к нему под высокий тополь синеглазая красавица с русой косой. Заболела однажды Ярина, передала, чтобы сын приехал, помогать надо было по хозяйству. Сын приехал, побыл дома три дня, тяжелой показалась ему работа: воду носи, дрова руби, сено коси…- и ушел снова на хутор. Вот тебе и жизнь воспитывает… Ведь любила Ярина сыночка до самозабвения, а чем он ей отплатил? Если бы жизнь воспитывала, то любовь матери воспитала бы и у сына чувство любви.
До восемнадцати лет болтался сынок без дела, уже стал и на вечерницы ходить, и к девушкам потянуло… Вспоминали, года за два до войны пришла к Ярине мать одной девушки-красавицы, пришла со слезами; какой разговор у них был — никто в точности не знал, известно стало в селе только то, что черноглазая красавица перестала выходить на улицу, потом долго лежала в больнице, пропала девичья краса, потухли огоньки в черных глазах. Узнали соседи, что Ярина отправила свое “золотко” куда-то на дальний хутор к дяде-пасечнику, ходили слухи: живет Яринин сын среди степного раздолья, ест белые калачи с медом, а по вечерам выходит к нему под высокий тополь синеглазая красавица с русой косой. Заболела однажды Ярина, передала, чтобы сын приехал, помогать надо было по хозяйству. Сын приехал, побыл дома три дня, тяжелой показалась ему работа: воду носи, дрова руби, сено коси…- и ушел снова на хутор. Вот тебе и жизнь воспитывает… Ведь любила Ярина сыночка до самозабвения, а чем он ей отплатил? Если бы жизнь воспитывала, то любовь матери воспитала бы и у сына чувство любви. Но в жизни не так все просто получается. Бывает, что любовь оборачивается тяжелой бедой… Как и когда появился в селе Яринин сын в ту тяжелую годину — никто не мог сказать. Сидели в сумерках старики и женщины под ветвистыми вишнями, говорили обо всем этом, и не давала покоя мысль: в кого он уродился? Прошло три дня после того, как село заняли фашисты, а Яринин сын уже ходит по улице с полицейской повязкой на руке. Думаем-гадаем, а легче от этого не станет,- сказал 70-летний дед Юхим.Откуда подлюка такая взялась? От пустой души. Нет у этого человека ничего святого за душой. Не истекла душа болью ни за мать, ни за землю родную. Не содрогнулось сердце от тревоги за землю дедов и прадедов своих. Не оставили руки корня в родной земле, ничего не создали для людей, не оросил пот ниву, нет мозолей от труда нелегкого и сладкого — и вырос чертополох. Эти слова передавались из уст в уста. А Яринин сын стал усердным слугой фашистов. Помогал им отправлять людей на гитлеровскую каторгу, помогал грабить колхозников.
Но в жизни не так все просто получается. Бывает, что любовь оборачивается тяжелой бедой… Как и когда появился в селе Яринин сын в ту тяжелую годину — никто не мог сказать. Сидели в сумерках старики и женщины под ветвистыми вишнями, говорили обо всем этом, и не давала покоя мысль: в кого он уродился? Прошло три дня после того, как село заняли фашисты, а Яринин сын уже ходит по улице с полицейской повязкой на руке. Думаем-гадаем, а легче от этого не станет,- сказал 70-летний дед Юхим.Откуда подлюка такая взялась? От пустой души. Нет у этого человека ничего святого за душой. Не истекла душа болью ни за мать, ни за землю родную. Не содрогнулось сердце от тревоги за землю дедов и прадедов своих. Не оставили руки корня в родной земле, ничего не создали для людей, не оросил пот ниву, нет мозолей от труда нелегкого и сладкого — и вырос чертополох. Эти слова передавались из уст в уста. А Яринин сын стал усердным слугой фашистов. Помогал им отправлять людей на гитлеровскую каторгу, помогал грабить колхозников. Говорили, что появилась у Яринина сына одежда убитого партизана… А мать черноглазой красавицы, проклиная фашистского холуя, прямо сказала: это он отправил ее дочь на каторгу в Германию. Страшные дни наступили для матери. Видела она, что люди презирают ее выродка, презирают и ее. Пыталась увещевать сына, напоминала о возвращении Советской власти и о расплате, но сын стал угрожать: ты знаешь, мол, что бывает с теми, кто не согласен с новым порядком. “Не сын ты мне больше”,-сказала мать, оставила хату, ушла к сестре. Окончились страшные дни оккупации, на рассвете в ноябре принесли свободу советские солдаты. Жаркие бои обошли село стороной, не успел Яринин сын убежать со своими хозяевами. Судили Ярининого сына, приговорил к семи годам тюрьмы. Прошло семь лет. Возвратился сын из тюрьмы, застал мать умирающей. Попросила Ярина прийти к ее смертному одру всех родственников и самых уважаемых в селе стариков. Не разрешила только сыну подойти к постели, сказала перед смертью: “Люди, дорогие мои земляки! Не кладите на мою грудь этого тяжелого камня.
Говорили, что появилась у Яринина сына одежда убитого партизана… А мать черноглазой красавицы, проклиная фашистского холуя, прямо сказала: это он отправил ее дочь на каторгу в Германию. Страшные дни наступили для матери. Видела она, что люди презирают ее выродка, презирают и ее. Пыталась увещевать сына, напоминала о возвращении Советской власти и о расплате, но сын стал угрожать: ты знаешь, мол, что бывает с теми, кто не согласен с новым порядком. “Не сын ты мне больше”,-сказала мать, оставила хату, ушла к сестре. Окончились страшные дни оккупации, на рассвете в ноябре принесли свободу советские солдаты. Жаркие бои обошли село стороной, не успел Яринин сын убежать со своими хозяевами. Судили Ярининого сына, приговорил к семи годам тюрьмы. Прошло семь лет. Возвратился сын из тюрьмы, застал мать умирающей. Попросила Ярина прийти к ее смертному одру всех родственников и самых уважаемых в селе стариков. Не разрешила только сыну подойти к постели, сказала перед смертью: “Люди, дорогие мои земляки! Не кладите на мою грудь этого тяжелого камня. Не считайте этого человека моим сыном”. Сын стоял среди хаты угрюмый и безразличный, казалось, ему все равно, что говорит мать. И тогда дед Юхим сказал за всех: “Будет так, как ты просишь, Ярина. Не положим на твою грудь тяжелого камня. Безродным псом будет ходить по земле этот человек до конца дней своих. Не только никто не назовет его твоим сыном, но и имя его забудем”. Слова деда Юхима оказались пророческими: и раньше мало кто знал имя предателя, все звали его Яринин сын, а теперь и вовсе забылось его имя. Стали называть этого тридцатилетнего человека по-разному. Одни говорили просто: тот, подлец; другие — человек без души, третьи — человек, у которого за душой нет ничего святого. Он жил в родительской хате, никто к нему никогда не ходил, соседи запрещали своим детям подходить близко к хате “человека без имени”- такое имя, наконец, дали ему все крестьяне. Он ходил на работу в колхоз. Люди избегали работать с ним. Одно время было трудно с кадрами механизаторов, он попросился учиться на тракториста, но не нашлось человека, который бы захотел остаться с ним наедине, передавать ему свои знания.
Не считайте этого человека моим сыном”. Сын стоял среди хаты угрюмый и безразличный, казалось, ему все равно, что говорит мать. И тогда дед Юхим сказал за всех: “Будет так, как ты просишь, Ярина. Не положим на твою грудь тяжелого камня. Безродным псом будет ходить по земле этот человек до конца дней своих. Не только никто не назовет его твоим сыном, но и имя его забудем”. Слова деда Юхима оказались пророческими: и раньше мало кто знал имя предателя, все звали его Яринин сын, а теперь и вовсе забылось его имя. Стали называть этого тридцатилетнего человека по-разному. Одни говорили просто: тот, подлец; другие — человек без души, третьи — человек, у которого за душой нет ничего святого. Он жил в родительской хате, никто к нему никогда не ходил, соседи запрещали своим детям подходить близко к хате “человека без имени”- такое имя, наконец, дали ему все крестьяне. Он ходил на работу в колхоз. Люди избегали работать с ним. Одно время было трудно с кадрами механизаторов, он попросился учиться на тракториста, но не нашлось человека, который бы захотел остаться с ним наедине, передавать ему свои знания. Яринин сын стал отверженным. Суд народа оказался неизмеримо страшнее тюрьмы. Он хотел было жениться, но не нашлось женщины или девушки, которая решилась бы соединить с ним свою судьбу. Пытался он выехать из села. Тут-то и проявилась вся сила народной морали. Стало ясно, что человек, изменивший Родине, никогда не может рассчитывать на пощаду. С того времени прошло два года. Человек без имени зарос волосами, как столетний дед, взгляд его стал каким-то мутным. Говорили, что он теряет рассудок. Целые дни он сидел во дворе, как будто грелся на солнце. Что-то говорил сам с собой, копался в земле, находил какие-то корни, ел. Кто-то из жалости приносил ночью кусок хлеба и горшок с борщом, оставлял на большом пне от старой груши. Человек без имени утром жадно ел. Однажды мне пришлось побывать в том селе. Я сидел в кабинете у председателя сельсовета. Зашел старый, дряхлый человек,- казалось, ему лет семьдесят. “Это он, человек без имени,- тихо сказал председатель сельсовета.
Яринин сын стал отверженным. Суд народа оказался неизмеримо страшнее тюрьмы. Он хотел было жениться, но не нашлось женщины или девушки, которая решилась бы соединить с ним свою судьбу. Пытался он выехать из села. Тут-то и проявилась вся сила народной морали. Стало ясно, что человек, изменивший Родине, никогда не может рассчитывать на пощаду. С того времени прошло два года. Человек без имени зарос волосами, как столетний дед, взгляд его стал каким-то мутным. Говорили, что он теряет рассудок. Целые дни он сидел во дворе, как будто грелся на солнце. Что-то говорил сам с собой, копался в земле, находил какие-то корни, ел. Кто-то из жалости приносил ночью кусок хлеба и горшок с борщом, оставлял на большом пне от старой груши. Человек без имени утром жадно ел. Однажды мне пришлось побывать в том селе. Я сидел в кабинете у председателя сельсовета. Зашел старый, дряхлый человек,- казалось, ему лет семьдесят. “Это он, человек без имени,- тихо сказал председатель сельсовета. — Ему сейчас тридцать девять лет… Послушаем, что он скажет”. “Отправьте меня куда-нибудь,- глухо, с затаенной болью стал просить человек без имени.- Не могу я больше жить здесь. Отправьте в дом престарелых или в приют какой-нибудь. Не отправите повешусь. Знаю, что заслужил людское презрение и проклятье. Хочется хоть перед смертью услышать доброе слово. Здесь меня знают, и слышу я только проклятия”. Над ним сжалились, отправили в дом престарелых. Никто не знал там о его прошлом. Относились к нему как к старому человеку, заслужившему право на уважение. Говорят, он радовался, как ребенок, когда его просили что-нибудь сделать для коллектива: вскопать клумбу или перебрать картофель. Но каким-то образом слух о его прошлом дошел и до дома престарелых. Отношение людей к нему сразу изменилось. Никто не говорил ни слова о прошлом этого человека, но все стали избегать его. Два старика, жившие в одной комнате с ним, попросились в другую; и он остался один.
— Ему сейчас тридцать девять лет… Послушаем, что он скажет”. “Отправьте меня куда-нибудь,- глухо, с затаенной болью стал просить человек без имени.- Не могу я больше жить здесь. Отправьте в дом престарелых или в приют какой-нибудь. Не отправите повешусь. Знаю, что заслужил людское презрение и проклятье. Хочется хоть перед смертью услышать доброе слово. Здесь меня знают, и слышу я только проклятия”. Над ним сжалились, отправили в дом престарелых. Никто не знал там о его прошлом. Относились к нему как к старому человеку, заслужившему право на уважение. Говорят, он радовался, как ребенок, когда его просили что-нибудь сделать для коллектива: вскопать клумбу или перебрать картофель. Но каким-то образом слух о его прошлом дошел и до дома престарелых. Отношение людей к нему сразу изменилось. Никто не говорил ни слова о прошлом этого человека, но все стали избегать его. Два старика, жившие в одной комнате с ним, попросились в другую; и он остался один. В холодную декабрьскую ночь ушел он неизвестно куда, и с тех пор его никто не видел. Мне бы хотелось, чтобы страшная судьба человека без имени заставила молодых людей посмотреть на себя как бы со стороны, заставила заглянуть в свою душу и спросить самого себя: а что для меня дорого в нашей советской жизни? Где нити, которыми я связан с народом? Чем я уже заслужил и чем заслужу в будущем уважение народа? Поставь и ты себе эти вопросы. Задумайся над тем, что человек сам толкает себя в пропасть одиночества, если в его душе нет того священного огонька, без которого невозможно счастье,- огонька любви к людям. Почему у честной, трудолюбивой женщины вырос сын-предатель? Разве не радостным и беззаботным было его детство? Казалось, мать отмерила сыну счастье полной мерой. Но какое это было счастье и какой мерой оно измерялось? Счастьем для ребенка стала животная радость потребления, эгоистические удовольствия затмили окружающий мир.
В холодную декабрьскую ночь ушел он неизвестно куда, и с тех пор его никто не видел. Мне бы хотелось, чтобы страшная судьба человека без имени заставила молодых людей посмотреть на себя как бы со стороны, заставила заглянуть в свою душу и спросить самого себя: а что для меня дорого в нашей советской жизни? Где нити, которыми я связан с народом? Чем я уже заслужил и чем заслужу в будущем уважение народа? Поставь и ты себе эти вопросы. Задумайся над тем, что человек сам толкает себя в пропасть одиночества, если в его душе нет того священного огонька, без которого невозможно счастье,- огонька любви к людям. Почему у честной, трудолюбивой женщины вырос сын-предатель? Разве не радостным и беззаботным было его детство? Казалось, мать отмерила сыну счастье полной мерой. Но какое это было счастье и какой мерой оно измерялось? Счастьем для ребенка стала животная радость потребления, эгоистические удовольствия затмили окружающий мир.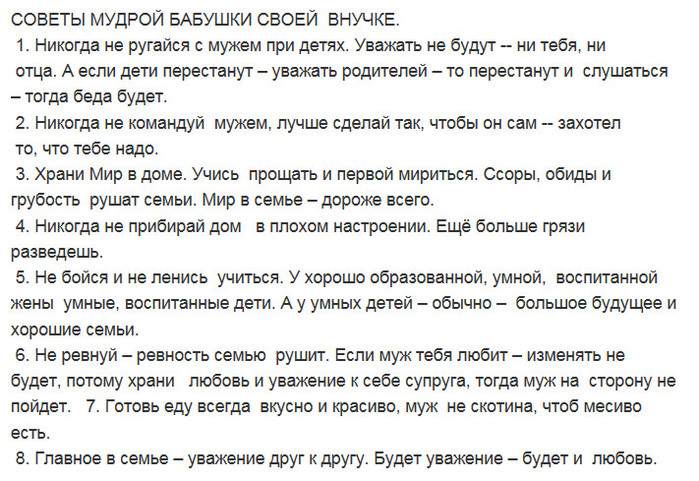 Отгороженное глухой стеной этих удовольствий от радостей и невзгод народа, юное сердце стало черствым, бездушным. Нельзя воспитать чуткую и честную душу гражданина, если единственной радостью является радость потребления, если человек приходит к человеку лишь тогда, когда он что-нибудь получает. Стержень, сердцевина человеческой личности — это то святое, что должно быть за душой, должно стать дороже жизни,- честь, достоинство, гордость советского гражданина. Любовь к Отчизне и любовь к людям — вот два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма. Не забывай, что в твоей жизни наступит минута, когда от тебя потребуется гражданское мужество, стойкость, готовность к такому напряжению всех физических и духовных сил, когда по одну сторону — радости, блага, удовольствия, а по другую — огромные лишения, самопожертвования, даже смерть во имя жизни и счастья людей. Готовь себя к тому, чтобы в нужный момент перейти черту именно на этот, второй путь.
Отгороженное глухой стеной этих удовольствий от радостей и невзгод народа, юное сердце стало черствым, бездушным. Нельзя воспитать чуткую и честную душу гражданина, если единственной радостью является радость потребления, если человек приходит к человеку лишь тогда, когда он что-нибудь получает. Стержень, сердцевина человеческой личности — это то святое, что должно быть за душой, должно стать дороже жизни,- честь, достоинство, гордость советского гражданина. Любовь к Отчизне и любовь к людям — вот два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма. Не забывай, что в твоей жизни наступит минута, когда от тебя потребуется гражданское мужество, стойкость, готовность к такому напряжению всех физических и духовных сил, когда по одну сторону — радости, блага, удовольствия, а по другую — огромные лишения, самопожертвования, даже смерть во имя жизни и счастья людей. Готовь себя к тому, чтобы в нужный момент перейти черту именно на этот, второй путь. Ты знаешь, что на почетном месте у нас в школе висит портрет восемнадцатилетнего юноши Леонида Шевченко. Он поехал добровольцем в Казахстан в первый год освоения целинных земель, работал трактористом, погиб на боевом посту, защищая социалистическую собственность. Под портретом юноши слова индийской мудрости: “Жизнь человеческая подобна железу: если употреблять его в дело — оно стирается, если не употреблять- ржавчина съедает его”. Пусть горит твое сердце ярким пламенем, пусть освещает дорогу и тебе, и детям — в этом счастье жизни. Но, если сердце твое съедает ржавчина,-помни, ты обречен на жалкое прозябание. Леонид Шевченко предпочел горение тлению. В морозный февральский день 1956 года он вместе с товарищами поехал трактором за сеном — за пятьдесят километров от усадьбы целинного совхоза. На обратном пути разыгрался буран. Можно было оставить трактор, пойти в землянку к животноводам, селение которых было недалеко от дороги.
Ты знаешь, что на почетном месте у нас в школе висит портрет восемнадцатилетнего юноши Леонида Шевченко. Он поехал добровольцем в Казахстан в первый год освоения целинных земель, работал трактористом, погиб на боевом посту, защищая социалистическую собственность. Под портретом юноши слова индийской мудрости: “Жизнь человеческая подобна железу: если употреблять его в дело — оно стирается, если не употреблять- ржавчина съедает его”. Пусть горит твое сердце ярким пламенем, пусть освещает дорогу и тебе, и детям — в этом счастье жизни. Но, если сердце твое съедает ржавчина,-помни, ты обречен на жалкое прозябание. Леонид Шевченко предпочел горение тлению. В морозный февральский день 1956 года он вместе с товарищами поехал трактором за сеном — за пятьдесят километров от усадьбы целинного совхоза. На обратном пути разыгрался буран. Можно было оставить трактор, пойти в землянку к животноводам, селение которых было недалеко от дороги. Но Леонид не оставил машину. “Идите,- сказал он товарищам,- переждите буран, а я останусь, буду прогревать мотор, ведь если остановить машину — потом сутки не заведешь, а мы сено везем, животные без корма…” Буран перешел в страшный ураган, усилился мороз, к тракторному каравану уже невозможно было подойти. Через сутки товарищи нашли юношу в кабине, он замерз, окоченевшая рука сжимала штурвал. Человек без имени и 18-летний юноша, чье имя с гордостью произносит не одно поколение школьников,- родились на одной земле, в соседних селах. Почему же так различна их судьба? Потому что один жил, как говорится, в собственное брюхо, а другой любил Родину и людей. Потому что мать человека без имени оберегала сына от тревог и волнений мира, кормила его радостями, и это стало для нее наивысшей радостью, а мать Леонида учила сына: ты живешь среди людей, помни, что высшая твоя радость — это радость, которую ты принес людям. Я вспоминаю детство и отрочество Леонида.
Но Леонид не оставил машину. “Идите,- сказал он товарищам,- переждите буран, а я останусь, буду прогревать мотор, ведь если остановить машину — потом сутки не заведешь, а мы сено везем, животные без корма…” Буран перешел в страшный ураган, усилился мороз, к тракторному каравану уже невозможно было подойти. Через сутки товарищи нашли юношу в кабине, он замерз, окоченевшая рука сжимала штурвал. Человек без имени и 18-летний юноша, чье имя с гордостью произносит не одно поколение школьников,- родились на одной земле, в соседних селах. Почему же так различна их судьба? Потому что один жил, как говорится, в собственное брюхо, а другой любил Родину и людей. Потому что мать человека без имени оберегала сына от тревог и волнений мира, кормила его радостями, и это стало для нее наивысшей радостью, а мать Леонида учила сына: ты живешь среди людей, помни, что высшая твоя радость — это радость, которую ты принес людям. Я вспоминаю детство и отрочество Леонида. Мальчик был обыкновенный, как тысячи других: шалил на переменах, дрался с товарищами, стрелял из рогатки. Но не это определяет духовный стержень человека. Самое главное то, что человек в детстве пережил высшую радость — радость творения добра для людей. Рядом с домом семьи Леонида расположилась тракторная бригада. Трактористы укрывались от непогоды в деревянном вагончике, а кругом — поле, в знойные дни негде от жары укрыться. Сказала мать детям: посадим для людей ореховое дерево. Трудился и семилетний Леонид. Благодарили трактористы, радовались дети… Сейчас прошло уже четырнадцать лет с той поры. Ореховое дерево разрослось, под его тенью в знойные дни отдыхают люди. Я смотрю в твои глаза, мой сын, думаю: что ты сделал для людей? Где та нить, которая связывает тебя с трудовым народом? Где корень, который питает твое духовное благородство из источника вечной и непреходящей красоты — завоеваний революции? Что принесло тебе самую большую в жизни радость? Ты вместе с товарищем во время первомайских праздников сел за руль трактора, работал два дня в поле, чтобы ветераны труда отдохнули.
Мальчик был обыкновенный, как тысячи других: шалил на переменах, дрался с товарищами, стрелял из рогатки. Но не это определяет духовный стержень человека. Самое главное то, что человек в детстве пережил высшую радость — радость творения добра для людей. Рядом с домом семьи Леонида расположилась тракторная бригада. Трактористы укрывались от непогоды в деревянном вагончике, а кругом — поле, в знойные дни негде от жары укрыться. Сказала мать детям: посадим для людей ореховое дерево. Трудился и семилетний Леонид. Благодарили трактористы, радовались дети… Сейчас прошло уже четырнадцать лет с той поры. Ореховое дерево разрослось, под его тенью в знойные дни отдыхают люди. Я смотрю в твои глаза, мой сын, думаю: что ты сделал для людей? Где та нить, которая связывает тебя с трудовым народом? Где корень, который питает твое духовное благородство из источника вечной и непреходящей красоты — завоеваний революции? Что принесло тебе самую большую в жизни радость? Ты вместе с товарищем во время первомайских праздников сел за руль трактора, работал два дня в поле, чтобы ветераны труда отдохнули.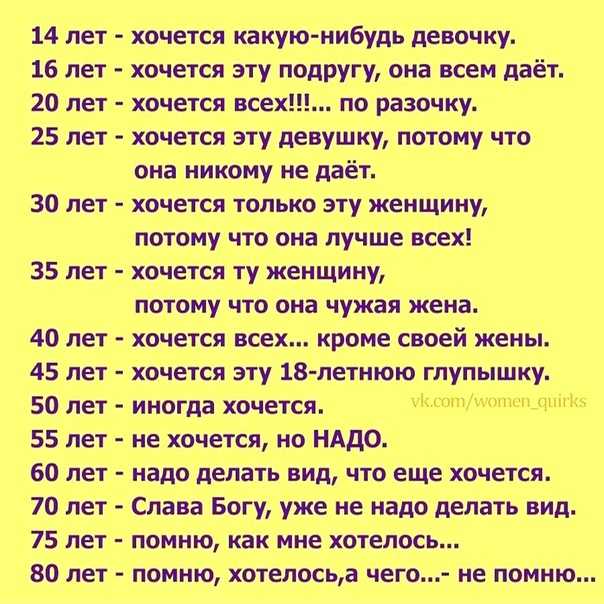 Ты возвращался с работы уставший, лицо твое было покрыто пылью, но радостный, счастливый, потому что ты сделал людям добро, и в этом нашел свою радость. Ты вывез в поле тонн двадцать удобрений, и бесплодный пустырь, где даже сорняки не росли, превратился в тучную ниву. В твоих глазах загорались огоньки человеческой гордости, когда ты смотрел на с в о е поле. Но сохранится ли этот огонек на всю жизнь — вот что меня беспокоит. Чем ярче красота миллионов роз в нашем всенародном цветнике, тем больше бросается в глаза куст чертополоха или дурмана, что неизвестно откуда взялся и отравляет нашу жизнь. Дурман и чертополох можно вырвать, удалить из цветника, человека же из общества не выкинешь. Надо заботиться о том, чтобы дурман не появлялся, чтобы каждое семя, положенное в плодородную почву, дало красивый цветок. Год тому назад труженики одного из колхозов нашего района были возмущены неслыханной вестью: бригадир полеводческой бригады приказал шоферу сбросить в овраг несколько тонн минеральных удобрений — чтобы забот было меньше.
Ты возвращался с работы уставший, лицо твое было покрыто пылью, но радостный, счастливый, потому что ты сделал людям добро, и в этом нашел свою радость. Ты вывез в поле тонн двадцать удобрений, и бесплодный пустырь, где даже сорняки не росли, превратился в тучную ниву. В твоих глазах загорались огоньки человеческой гордости, когда ты смотрел на с в о е поле. Но сохранится ли этот огонек на всю жизнь — вот что меня беспокоит. Чем ярче красота миллионов роз в нашем всенародном цветнике, тем больше бросается в глаза куст чертополоха или дурмана, что неизвестно откуда взялся и отравляет нашу жизнь. Дурман и чертополох можно вырвать, удалить из цветника, человека же из общества не выкинешь. Надо заботиться о том, чтобы дурман не появлялся, чтобы каждое семя, положенное в плодородную почву, дало красивый цветок. Год тому назад труженики одного из колхозов нашего района были возмущены неслыханной вестью: бригадир полеводческой бригады приказал шоферу сбросить в овраг несколько тонн минеральных удобрений — чтобы забот было меньше. Оба они — и бригадир и шофер — молодые люди, уже в послевоенные годы рядом стояли в строю пионерского отряда, принимая торжественное обещание быть верными высоким идеалам коммунизма; вместе поступали в комсомол. Эти два куста чертополоха на нашей прекрасной земле — явление того же порядка, что и человек без имени, что и убийца, потерявший человеческий облик, что и молодой двадцатисемилетний отец, бросивший три семьи, и в каждой — по ребенку. Степень преступления здесь разная, но корень зла один и тот же моральное уродство, имя которому — пустота души. Есть пословица: “С кем поведешься, от того и наберешься”, она справедлива, но бывает нередко и так, что человека как будто бы ничему плохому никто не учит, никакие предосудительные поступки на его глазах не происходят, а вырастет он подлецом. Все дело в том, что, как оказывается на поверку, этого человека никто не учит ни плохому, ни хорошему, и он растет, как бурьян на пустыре.
Оба они — и бригадир и шофер — молодые люди, уже в послевоенные годы рядом стояли в строю пионерского отряда, принимая торжественное обещание быть верными высоким идеалам коммунизма; вместе поступали в комсомол. Эти два куста чертополоха на нашей прекрасной земле — явление того же порядка, что и человек без имени, что и убийца, потерявший человеческий облик, что и молодой двадцатисемилетний отец, бросивший три семьи, и в каждой — по ребенку. Степень преступления здесь разная, но корень зла один и тот же моральное уродство, имя которому — пустота души. Есть пословица: “С кем поведешься, от того и наберешься”, она справедлива, но бывает нередко и так, что человека как будто бы ничему плохому никто не учит, никакие предосудительные поступки на его глазах не происходят, а вырастет он подлецом. Все дело в том, что, как оказывается на поверку, этого человека никто не учит ни плохому, ни хорошему, и он растет, как бурьян на пустыре. Вот так и рождается самое страшное, что можно представить в наши дни,пустота души. Человека без имени не учили предавать Родину и быть мучителем, но таким он стал потому, что, как хорошо сказал дед Юхим, не истекла у него душа болью ни за мать, ни за землю родную, не оставили руки корня в родной земле, не приросла к этому корню капля пота и крупица человеческой чести. Если человека не учить ни хорошему, ни плохому, он не станет Человеком; чтобы живое существо, родившееся от человека, стало Человеком, надо его учить только хорошему. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Крепко обнимаю и целую тебя. Твой отец.
Вот так и рождается самое страшное, что можно представить в наши дни,пустота души. Человека без имени не учили предавать Родину и быть мучителем, но таким он стал потому, что, как хорошо сказал дед Юхим, не истекла у него душа болью ни за мать, ни за землю родную, не оставили руки корня в родной земле, не приросла к этому корню капля пота и крупица человеческой чести. Если человека не учить ни хорошему, ни плохому, он не станет Человеком; чтобы живое существо, родившееся от человека, стало Человеком, надо его учить только хорошему. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Крепко обнимаю и целую тебя. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Твое письмо озадачило меня, на него ответить не так легко. Ты просишь посоветовать: что надо делать комсомольской организации группы, чтобы жизнь ее была “кипучей, живой, интересной”, чтобы “на собрании не скучали, не ожидали: когда уже это окончится…” Трудно ответить потому, что я не знаю хорошо, чем живет ваш коллектив, какие у ваших комсомольцев интересы и идеалы. Но порекомендовать кое-что надо. Мне хорошо известна эта болезнь комсомольских организаций: сойдутся на собрание и не знают, о чем говорить, какой вопрос поставить на обсуждение. В чем причина этой болезни? Мне кажется, в отрыве всех собраний от духовной жизни коллектива, от коллективных споров и дискуссий. Ваши собрания станут интересными тогда, когда они будут вызываться необходимостью, иными словами: у вас должно появиться желание сойтись, чтобы подумать коллективно, поспорить, посоветоваться. Самое главное, чем, на мой взгляд, должна заниматься любая комсомольская организация — ив школе, и в колхозе, и на заводе, и в вузе это воспитание человека. Делайте так, чтобы комсомольское собрание было школой самовоспитания. Воспитание ума и жизненной мудрости, воспитание чувств, воспитание гражданского долга, воспитание нравственной зрелости все это надо выразить в таких формах работы, чтобы каждый юноша, каждая девушка видели себя, познавали себя, думали о своей судьбе, чтобы будущее волновало и тревожило, но в то же время, чтобы самопознание сочеталось со стремлением к идеалу, чтобы каждый к чему-то стремился.
Но порекомендовать кое-что надо. Мне хорошо известна эта болезнь комсомольских организаций: сойдутся на собрание и не знают, о чем говорить, какой вопрос поставить на обсуждение. В чем причина этой болезни? Мне кажется, в отрыве всех собраний от духовной жизни коллектива, от коллективных споров и дискуссий. Ваши собрания станут интересными тогда, когда они будут вызываться необходимостью, иными словами: у вас должно появиться желание сойтись, чтобы подумать коллективно, поспорить, посоветоваться. Самое главное, чем, на мой взгляд, должна заниматься любая комсомольская организация — ив школе, и в колхозе, и на заводе, и в вузе это воспитание человека. Делайте так, чтобы комсомольское собрание было школой самовоспитания. Воспитание ума и жизненной мудрости, воспитание чувств, воспитание гражданского долга, воспитание нравственной зрелости все это надо выразить в таких формах работы, чтобы каждый юноша, каждая девушка видели себя, познавали себя, думали о своей судьбе, чтобы будущее волновало и тревожило, но в то же время, чтобы самопознание сочеталось со стремлением к идеалу, чтобы каждый к чему-то стремился. Я твердо убежден в том, что важнейшей воспитательной задачей вуза и комсомольской студенческой организации является формирование мировоззрения, идейной устремленности человека, а это начинается с воспитания ума, мудрости. Идея — это корень, идеал-зеленый росток, из которого развивается могучее дерево человеческой мысли, деятельности, поступков, порывов, страстей, споров. Я считаю, что комсомольская организация должна каждого молодого человека научить постигать важнейшую жизненную мудрость: думать так, чтобы приблизиться к познанию идеи, чтобы стремиться в своей практической деятельности к идеалу. Странное, очень странное дело наблюдается в комсомольских организациях: говорят обо всем, часто стремятся охватить мысленно сложнейшие вопросы формирования мировоззрения, а вот о воспитании ума никто не говорит. А с этого все начинается, в этом все корни… Да, но как же воспитывать ум, мировоззрение, идейность, стремление к идеалу, как поставить все это в ряд? Мудрость — дочь опыта, писал Леонардо да Винчи.
Я твердо убежден в том, что важнейшей воспитательной задачей вуза и комсомольской студенческой организации является формирование мировоззрения, идейной устремленности человека, а это начинается с воспитания ума, мудрости. Идея — это корень, идеал-зеленый росток, из которого развивается могучее дерево человеческой мысли, деятельности, поступков, порывов, страстей, споров. Я считаю, что комсомольская организация должна каждого молодого человека научить постигать важнейшую жизненную мудрость: думать так, чтобы приблизиться к познанию идеи, чтобы стремиться в своей практической деятельности к идеалу. Странное, очень странное дело наблюдается в комсомольских организациях: говорят обо всем, часто стремятся охватить мысленно сложнейшие вопросы формирования мировоззрения, а вот о воспитании ума никто не говорит. А с этого все начинается, в этом все корни… Да, но как же воспитывать ум, мировоззрение, идейность, стремление к идеалу, как поставить все это в ряд? Мудрость — дочь опыта, писал Леонардо да Винчи. Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека, не находя себе применения, чахнет. Подумайте, поспорьте над проблемой: что представляет собой наш жизненный опыт? Уверяю тебя, это будет интереснейший разговор. Интересен он будет тем, что каждый из вас как бы со стороны посмотрит на себя. Вы будете подвергать умственному анализу то, что делаете, то, как вы поступаете. Здесь будет разговор и об идеях, и об идеале, но все это — через призму личного восприятия. В споре о жизненном опыте человек как бы подводит итоги того, что он сделал, но этот итог невозможен без самооценки, и в этом заключается большая воспитательная ценность диспута. Сильный ум, преследующий практические цели,- лучший ум на земле, писал Гете. Свой опыт надо анализировать с точки зрения практических целей. Ведь все ваше учение, весь ваш умственный труд имеет практическую цель: стать хорошими гражданами, хорошими творцами, честными людьми — людьми с ясной головой, чистым сердцем, золотыми руками.
Железо ржавеет, не находя себе применения, стоячая вода гниет или на холоде замерзает, а ум человека, не находя себе применения, чахнет. Подумайте, поспорьте над проблемой: что представляет собой наш жизненный опыт? Уверяю тебя, это будет интереснейший разговор. Интересен он будет тем, что каждый из вас как бы со стороны посмотрит на себя. Вы будете подвергать умственному анализу то, что делаете, то, как вы поступаете. Здесь будет разговор и об идеях, и об идеале, но все это — через призму личного восприятия. В споре о жизненном опыте человек как бы подводит итоги того, что он сделал, но этот итог невозможен без самооценки, и в этом заключается большая воспитательная ценность диспута. Сильный ум, преследующий практические цели,- лучший ум на земле, писал Гете. Свой опыт надо анализировать с точки зрения практических целей. Ведь все ваше учение, весь ваш умственный труд имеет практическую цель: стать хорошими гражданами, хорошими творцами, честными людьми — людьми с ясной головой, чистым сердцем, золотыми руками. Вот и подумайте над тем, как вы стремитесь стать хорошими людьми. Какие книги вы читаете, что вас волнует, насколько глубоко пронизывает ваш умственный труд пытливая мысль. “Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом” — эти слова А. Франса я советовал бы поставить эпиграфом к вашему спору. Вам жить в коммунистическом обществе, у вас должен быть разум творца. Что значит творческий разум? Это мировоззрение в действии. Ваше учение в вузе вообще должно отличаться тем, что, думая, вы, должны не только познавать, объяснять окружающий мир, но и что-то утверждать, за что-то бороться, что-то отстаивать. Один комсомольский работник вуза говорил мне: “Трудно поставить работу вузовской организации так, чтобы каждый юноша, каждая девушка участвовали в чем-то конкретном. Мы -“чистые мыслители”, какая у нас может быть прямая, непосредственная связь с жизнью”? Странное недомыслие… Ведь “чистые мыслители” шли на смерть за то, что не захотели отказаться от своих убеждений.
Вот и подумайте над тем, как вы стремитесь стать хорошими людьми. Какие книги вы читаете, что вас волнует, насколько глубоко пронизывает ваш умственный труд пытливая мысль. “Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом” — эти слова А. Франса я советовал бы поставить эпиграфом к вашему спору. Вам жить в коммунистическом обществе, у вас должен быть разум творца. Что значит творческий разум? Это мировоззрение в действии. Ваше учение в вузе вообще должно отличаться тем, что, думая, вы, должны не только познавать, объяснять окружающий мир, но и что-то утверждать, за что-то бороться, что-то отстаивать. Один комсомольский работник вуза говорил мне: “Трудно поставить работу вузовской организации так, чтобы каждый юноша, каждая девушка участвовали в чем-то конкретном. Мы -“чистые мыслители”, какая у нас может быть прямая, непосредственная связь с жизнью”? Странное недомыслие… Ведь “чистые мыслители” шли на смерть за то, что не захотели отказаться от своих убеждений. Анализируя свой жизненный опыт, вы должны ответить на вопрос: что мы утверждаем, отстаиваем, за что мы боремся? Я думал, что в нашем обществе именно в сфере мышления будет еще долго происходить острая борьба между научно-материалистическим мировоззрением и суевериями, предрассудками, окостеневшими взглядами. Сколько есть еще людей, твердо убежденных в том, что во многих явлениях есть познаваемые и непознаваемые стороны: есть что-то таинственное, сверхъестественное, что никогда не будет познано и объяснено. Как правило, таких взглядов придерживаются люди религиозные, которые глубоко верят в бога. В их сознании надо утверждать другую веру и другую надежду: веру в то, что человек сегодня одну за другой объясняет непознанные вчера тайны природы, мышления, в процессе познания перед ним открываются новые загадки, новые тайны, которые будут объяснены. Веру в то, что, познав сложнейшие тайны и тонкости бытия, человек овладеет самой большой, извечной тайной тайной жизни.
Анализируя свой жизненный опыт, вы должны ответить на вопрос: что мы утверждаем, отстаиваем, за что мы боремся? Я думал, что в нашем обществе именно в сфере мышления будет еще долго происходить острая борьба между научно-материалистическим мировоззрением и суевериями, предрассудками, окостеневшими взглядами. Сколько есть еще людей, твердо убежденных в том, что во многих явлениях есть познаваемые и непознаваемые стороны: есть что-то таинственное, сверхъестественное, что никогда не будет познано и объяснено. Как правило, таких взглядов придерживаются люди религиозные, которые глубоко верят в бога. В их сознании надо утверждать другую веру и другую надежду: веру в то, что человек сегодня одну за другой объясняет непознанные вчера тайны природы, мышления, в процессе познания перед ним открываются новые загадки, новые тайны, которые будут объяснены. Веру в то, что, познав сложнейшие тайны и тонкости бытия, человек овладеет самой большой, извечной тайной тайной жизни. Это настоящая борьба за торжество разума, человека. Разум, писал В. Г. Белинский, дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того только, чтобы он видел, что он неразумно живет. Обогащайте свой опыт борьбой за человека,-тогда вам будет о чем спорить, будет о чем говорить. И вообще в своей повседневной жизни утверждайте одну из важнейших научно-материалистических истин: то, что сегодня еще не познано, будет познано завтра. Например, еще недостаточно раскрыта материальная природа радиоволн, а сущность гравитации объяснена очень туманно, много здесь совершенно неясного. Боритесь за научно-материалистическое познание именно здесь, в сфере этих тайн природы. Думайте, думайте и еще раз думайте. И чем больше будет пищи для ума, тем острее будет ваш спор, тем богаче познание жизненного опыта. Если вы будете думать над тем, что еще не познано,- вы будете по-настоящему мудрыми людьми. А мудрость, писал Л. Н. Толстой, необходима всем людям и поэтому свойственная всем людям.
Это настоящая борьба за торжество разума, человека. Разум, писал В. Г. Белинский, дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того только, чтобы он видел, что он неразумно живет. Обогащайте свой опыт борьбой за человека,-тогда вам будет о чем спорить, будет о чем говорить. И вообще в своей повседневной жизни утверждайте одну из важнейших научно-материалистических истин: то, что сегодня еще не познано, будет познано завтра. Например, еще недостаточно раскрыта материальная природа радиоволн, а сущность гравитации объяснена очень туманно, много здесь совершенно неясного. Боритесь за научно-материалистическое познание именно здесь, в сфере этих тайн природы. Думайте, думайте и еще раз думайте. И чем больше будет пищи для ума, тем острее будет ваш спор, тем богаче познание жизненного опыта. Если вы будете думать над тем, что еще не познано,- вы будете по-настоящему мудрыми людьми. А мудрость, писал Л. Н. Толстой, необходима всем людям и поэтому свойственная всем людям. Мудрость в том, чтобы знать свое назначение и средства исполнять его. “Хорошо было бы, если бы мудрость была такого свойства, чтобы могла переливаться из того человека, который полон ею, в того, в котором ее нет… Но горе в том, что для восприятия чужой мудрости нужна прежде всего самостоятельная работа”[24]. Вот над этими словами мудрейшего из мудрых тоже надо глубоко задуматься. Какими бы мудрыми ни были люди, окружающие тебя, ты не поднимешься ни на одну ступеньку длинной лестницы человеческой мудрости, если будешь бездельничать. Какой бы интересный спор ни происходил рядом с тобой, надо самому мыслить, чтобы стать умнее. Я советовал бы поспорить на комсомольском диспуте о том, что Ромен Роллан называет мужеством ума и честностью ума: “Мужество ума состоит в том, чтобы не отступать перед тягостями умственного труда. Честность ума состоит в том, чтобы не отступать перед правдой, стремиться к ней, находить ее любой ценой, гнушаться легких и удобных половинчатых решений, унизительной лжи.
Мудрость в том, чтобы знать свое назначение и средства исполнять его. “Хорошо было бы, если бы мудрость была такого свойства, чтобы могла переливаться из того человека, который полон ею, в того, в котором ее нет… Но горе в том, что для восприятия чужой мудрости нужна прежде всего самостоятельная работа”[24]. Вот над этими словами мудрейшего из мудрых тоже надо глубоко задуматься. Какими бы мудрыми ни были люди, окружающие тебя, ты не поднимешься ни на одну ступеньку длинной лестницы человеческой мудрости, если будешь бездельничать. Какой бы интересный спор ни происходил рядом с тобой, надо самому мыслить, чтобы стать умнее. Я советовал бы поспорить на комсомольском диспуте о том, что Ромен Роллан называет мужеством ума и честностью ума: “Мужество ума состоит в том, чтобы не отступать перед тягостями умственного труда. Честность ума состоит в том, чтобы не отступать перед правдой, стремиться к ней, находить ее любой ценой, гнушаться легких и удобных половинчатых решений, унизительной лжи. Иметь смелость самостоятельно мыслить. Быть человеком”. Подумайте, честно, как говорится, признайтесь каждый самому себе, всегда ли вы преодолеваете трудности умственного труда. Помни, сын, что в умственном труде очень легко поддаться искушению избрать легкий путь и уклониться от самого трудного пути. Всегда ли вы преодолеваете трудности во имя торжества справедливой истины, во имя идеи, идеала? Вот сколько можно спорить о разуме и мудрости. А об идеях, об идеале — тоже не меньше. Я советовал бы устроить диспуты на темы: “Кого я считаю образцом для подражания”, “Человеческий идеал и идеальный человек”, “Нравственность и красота”. Помню, когда я учился в институте, у нас были диспуты как раз на эти темы. Попробуйте и вы — увидите, как скрестятся мечи взглядов Без идеала не может быть никакого движения вперед. Без идеала немыслима юношеская мечта, а мечта является искрой, из которой разгорается комсомольская романтика.
Иметь смелость самостоятельно мыслить. Быть человеком”. Подумайте, честно, как говорится, признайтесь каждый самому себе, всегда ли вы преодолеваете трудности умственного труда. Помни, сын, что в умственном труде очень легко поддаться искушению избрать легкий путь и уклониться от самого трудного пути. Всегда ли вы преодолеваете трудности во имя торжества справедливой истины, во имя идеи, идеала? Вот сколько можно спорить о разуме и мудрости. А об идеях, об идеале — тоже не меньше. Я советовал бы устроить диспуты на темы: “Кого я считаю образцом для подражания”, “Человеческий идеал и идеальный человек”, “Нравственность и красота”. Помню, когда я учился в институте, у нас были диспуты как раз на эти темы. Попробуйте и вы — увидите, как скрестятся мечи взглядов Без идеала не может быть никакого движения вперед. Без идеала немыслима юношеская мечта, а мечта является искрой, из которой разгорается комсомольская романтика. Поспорьте об идеале — и вы сами увидите, как взлет творческой мысли поднимет вас над массой жизненных явлений, и среди них вы сумеете найти то, что для вас дорого. Вот некоторые мои советы о том, каким должен быть предмет спора на комсомольском собрании. Это, конечно, не будут обычные собрания, которые всем приелись, на которых никому не хочется выступать, потому что все уже говорено и переговорено… Это будет игра живой, творческой мысли, одухотворенной благородными побуждениями. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
Поспорьте об идеале — и вы сами увидите, как взлет творческой мысли поднимет вас над массой жизненных явлений, и среди них вы сумеете найти то, что для вас дорого. Вот некоторые мои советы о том, каким должен быть предмет спора на комсомольском собрании. Это, конечно, не будут обычные собрания, которые всем приелись, на которых никому не хочется выступать, потому что все уже говорено и переговорено… Это будет игра живой, творческой мысли, одухотворенной благородными побуждениями. Желаю тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Обнимаю и целую тебя. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Ты просишь посоветовать, как экономно и умно — (это совершенно правильно — умно) использовать время. Жалуешься, что “одна работа “подхлестывает” другую, не успеешь оглянуться — день окончился, осталось не выполненным то, что собирался было сделать”. Из твоего письма мне ясно также то, что на тебя сваливается, как ты говоришь, “груда книг”, не успеваешь прочитать все рекомендованное. Я дам тебе несколько советов, исходя из собственного опыта. Первое и самое главное — об этом я писал тебе еще в прошлом году — умение создавать резерв времени в процессе слушания лекций. Неумение слушать лекции приводит к тому, что у студента создаются “авральные” периоды умственного труда: несколько дней перед зачетами (или экзаменами) он просиживает над конспектами лекций, а во время зачетов спит 2–3 часа в сутки. Вся работа, которая должна выполняться повседневно, изо дня в день, откладывается на эти “пожарные дни”. По моим подсчетам, таких “пожарных”, “авральных” дней набирается в году не меньше пятидесяти, то есть почти четвертая часть всего рабочего времени. Здесь кроется один из самых главных корней нехватки времени. Надо предотвращать “пожарные” круглосуточные бдения над конспектами. Надо учиться думать над конспектом уже на лекции и поработать над записями ежедневно хотя бы в течение двух часов. Я советую конспект делить как бы на две рубрики (графы): в первую записывать кратко изложенные лекции, во вторую-то, над чем надо подумать; сюда следует заносить узловые, главные вопросы.
Я дам тебе несколько советов, исходя из собственного опыта. Первое и самое главное — об этом я писал тебе еще в прошлом году — умение создавать резерв времени в процессе слушания лекций. Неумение слушать лекции приводит к тому, что у студента создаются “авральные” периоды умственного труда: несколько дней перед зачетами (или экзаменами) он просиживает над конспектами лекций, а во время зачетов спит 2–3 часа в сутки. Вся работа, которая должна выполняться повседневно, изо дня в день, откладывается на эти “пожарные дни”. По моим подсчетам, таких “пожарных”, “авральных” дней набирается в году не меньше пятидесяти, то есть почти четвертая часть всего рабочего времени. Здесь кроется один из самых главных корней нехватки времени. Надо предотвращать “пожарные” круглосуточные бдения над конспектами. Надо учиться думать над конспектом уже на лекции и поработать над записями ежедневно хотя бы в течение двух часов. Я советую конспект делить как бы на две рубрики (графы): в первую записывать кратко изложенные лекции, во вторую-то, над чем надо подумать; сюда следует заносить узловые, главные вопросы.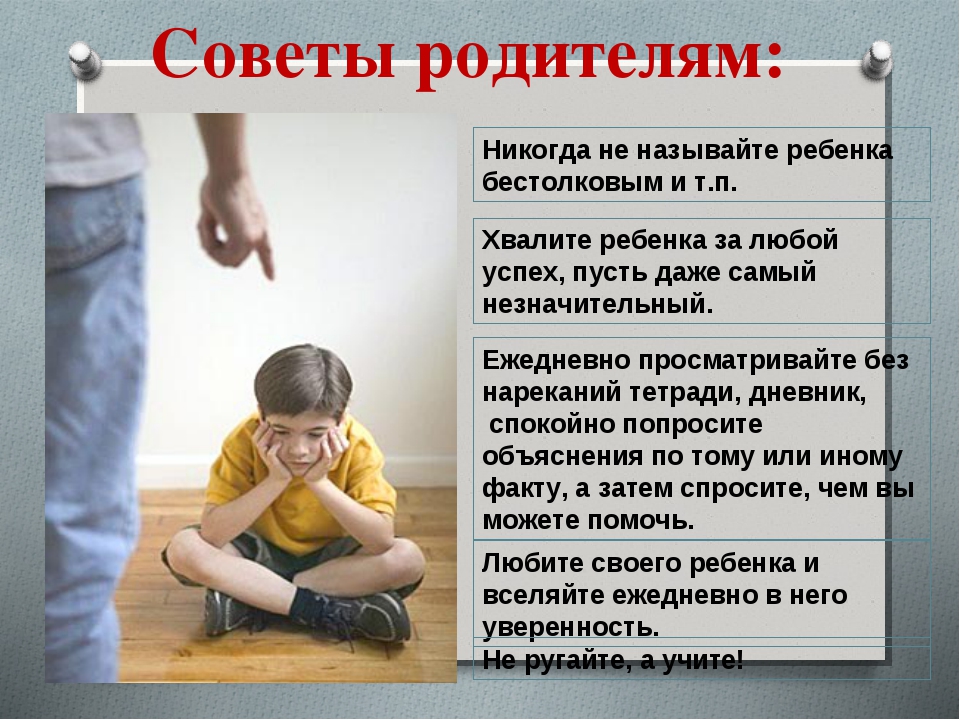 Это тот каркас, к которому как бы привязывается все здание знаний по данному предмету. Вот над этими каркасными вопросами надо думать ежедневно, связывая с этим думанием то повседневное чтение, о котором я говорил. Если ты будешь придерживаться этого требования по всем предметам, у тебя не будет “авральных” дней. Не будет надобности перечитывать и заучивать весь конспект при подготовке к экзамену или зачету. Каркас предмета будет своеобразной программой, на основе которой припоминается весь материал по данному предмету [2]. Если хочешь, чтобы у тебя было достаточно времени, ежедневно читай. Читай каждый день и основательно штудируй несколько (4–6) страниц научной литературы, в той или иной мере связанной с учебными предметами. Читай внимательно и вдумчиво. Все, что ты читаешь — это интеллектуальный фон твоего учения. Чем богаче этот фон, тем легче учиться. Чем больше читаешь ежедневно, тем больше у тебя будет резерв времени.
Это тот каркас, к которому как бы привязывается все здание знаний по данному предмету. Вот над этими каркасными вопросами надо думать ежедневно, связывая с этим думанием то повседневное чтение, о котором я говорил. Если ты будешь придерживаться этого требования по всем предметам, у тебя не будет “авральных” дней. Не будет надобности перечитывать и заучивать весь конспект при подготовке к экзамену или зачету. Каркас предмета будет своеобразной программой, на основе которой припоминается весь материал по данному предмету [2]. Если хочешь, чтобы у тебя было достаточно времени, ежедневно читай. Читай каждый день и основательно штудируй несколько (4–6) страниц научной литературы, в той или иной мере связанной с учебными предметами. Читай внимательно и вдумчиво. Все, что ты читаешь — это интеллектуальный фон твоего учения. Чем богаче этот фон, тем легче учиться. Чем больше читаешь ежедневно, тем больше у тебя будет резерв времени. Потому что во всем, что ты читаешь,- тысячи точек соприкосновения с материалом, изучающимся на лекциях. Эти точки я бы назвал якорями памяти. Они привязывают обязательные знания к тому океану знаний, который окружает человека. Умей заставлять себя читать ежедневно. Не откладывай этой работы на завтра. То, что упущено сегодня, никогда не возместишь завтра [3]. Начинай рабочий день рано утром, часов в 6. Вставай в 5 часов 30 минут, сделай зарядку, выпей стакан молока с булочкой (не привыкай к чаю, успеешь еще привыкнуть в зрелые годы), начинай работу. Если ты привыкнешь к началу своего рабочего дня в 6 часов, то старайся приступить к работе за 15–20 минут до шести. Это хороший внутренний стимул, задающий тон всему рабочему дню. Полтора часа утреннего умственного труда перед лекциями — это золотое время. Все, что мне удалось сделать, я сделал утром. В течение тридцати лет я начинаю свой рабочий день в пять часов утра, работаю до восьми часов.
Потому что во всем, что ты читаешь,- тысячи точек соприкосновения с материалом, изучающимся на лекциях. Эти точки я бы назвал якорями памяти. Они привязывают обязательные знания к тому океану знаний, который окружает человека. Умей заставлять себя читать ежедневно. Не откладывай этой работы на завтра. То, что упущено сегодня, никогда не возместишь завтра [3]. Начинай рабочий день рано утром, часов в 6. Вставай в 5 часов 30 минут, сделай зарядку, выпей стакан молока с булочкой (не привыкай к чаю, успеешь еще привыкнуть в зрелые годы), начинай работу. Если ты привыкнешь к началу своего рабочего дня в 6 часов, то старайся приступить к работе за 15–20 минут до шести. Это хороший внутренний стимул, задающий тон всему рабочему дню. Полтора часа утреннего умственного труда перед лекциями — это золотое время. Все, что мне удалось сделать, я сделал утром. В течение тридцати лет я начинаю свой рабочий день в пять часов утра, работаю до восьми часов. Тридцать книг по педагогике и свыше трехсот других научных трудов — все это написано от пяти до восьми утра. У меня уже выработался ритм умственного труда: если бы я даже захотел в утренние часы спать — это мне не удается, все во мне настроено в это время только на умственный труд. Советую тебе выполнять в утренние полтора часа самый сложный творческий умственный труд. Думай над узловыми вопросами теории, штудируй трудные теоретические статьи, работай над рефератами. Если у тебя умственный труд с элементами исследования — выполняй его только в утренние часы [4]. Умей определить систему своего умственного труда, от которой многое зависит. Я имею в виду понимание соотношения главного и второстепенного. Главное надо уметь распределять во времени так, чтобы оно не отодвигалось на задний план второстепенным. Главным надо заниматься ежедневно. Определи самые важные научные проблемы, от понимания которых зависит становление в тебе инженера.
Тридцать книг по педагогике и свыше трехсот других научных трудов — все это написано от пяти до восьми утра. У меня уже выработался ритм умственного труда: если бы я даже захотел в утренние часы спать — это мне не удается, все во мне настроено в это время только на умственный труд. Советую тебе выполнять в утренние полтора часа самый сложный творческий умственный труд. Думай над узловыми вопросами теории, штудируй трудные теоретические статьи, работай над рефератами. Если у тебя умственный труд с элементами исследования — выполняй его только в утренние часы [4]. Умей определить систему своего умственного труда, от которой многое зависит. Я имею в виду понимание соотношения главного и второстепенного. Главное надо уметь распределять во времени так, чтобы оно не отодвигалось на задний план второстепенным. Главным надо заниматься ежедневно. Определи самые важные научные проблемы, от понимания которых зависит становление в тебе инженера.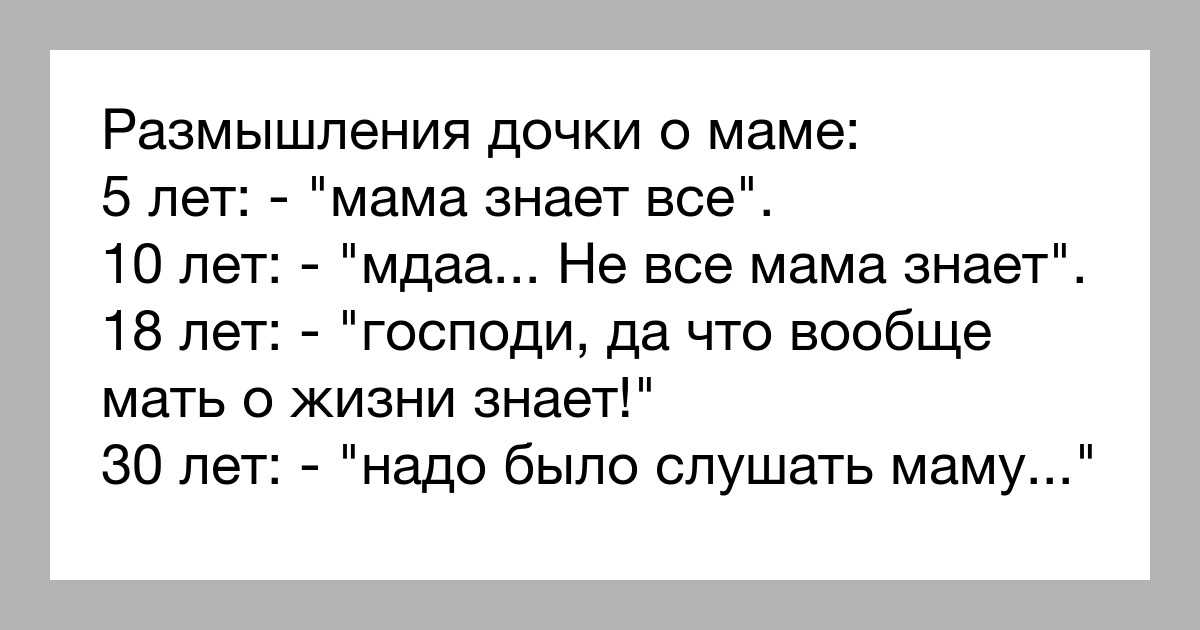 Ряд этих проблем являются сквозными, они пронизывают многие предметы. Главные научные проблемы должны быть у тебя на первом месте в утреннем умственном труде. Умей найти по главным научным проблемам фундаментальные книги, научные труды и работай над ними [5]. Умей создавать себе внутренние стимулы. Многое в умственном труде не настолько интересно, чтобы выполнять его с большим желанием. Часто единственным движущим стимулом является лишь надо. Начинай умственный труд как раз с этого. Умей сосредоточиться настолько, чтобы надо постепенно превращалось в х о ч у. Самое интересное всегда оставляй на конец работы [6]. Тебя окружает море книг и журналов. В студенческие годы надо быть очень строгим в выборе книг и журналов для чтения. Пытливому и любознательному хочется прочитать все. Но это неосуществимо. Умей ограничивать круг чтения, исключать из него то, что может нарушить режим труда. Но в то же время надо помнить, что в любую минуту может возникнуть необходимость прочитать новую книгу-то, что не предусмотрено было твоими планами.
Ряд этих проблем являются сквозными, они пронизывают многие предметы. Главные научные проблемы должны быть у тебя на первом месте в утреннем умственном труде. Умей найти по главным научным проблемам фундаментальные книги, научные труды и работай над ними [5]. Умей создавать себе внутренние стимулы. Многое в умственном труде не настолько интересно, чтобы выполнять его с большим желанием. Часто единственным движущим стимулом является лишь надо. Начинай умственный труд как раз с этого. Умей сосредоточиться настолько, чтобы надо постепенно превращалось в х о ч у. Самое интересное всегда оставляй на конец работы [6]. Тебя окружает море книг и журналов. В студенческие годы надо быть очень строгим в выборе книг и журналов для чтения. Пытливому и любознательному хочется прочитать все. Но это неосуществимо. Умей ограничивать круг чтения, исключать из него то, что может нарушить режим труда. Но в то же время надо помнить, что в любую минуту может возникнуть необходимость прочитать новую книгу-то, что не предусмотрено было твоими планами. Для этого необходим резерв времени. Он создается, как я уже писал тебе, умелым умственным трудом на лекциях и над конспектами, предотвращением “авральных” дней [7]. Умей самому себе сказать: нет. Тебя окружает масса дел. Есть и научные кружки, и кружки художественной самодеятельности, и спортивные секции, и вечера танцев, и много клубов, где можно провести время. Умей проявить решительность: во многих из этих видов деятельности заключены соблазны, которые могут принести тебе большой вред. Надо и развлечься, и отдохнуть, но нельзя забывать главного: ты труженик, государство тратит на тебя большие деньги, и на первом месте должны стоять не танцы, а труд. Для отдыха я советую шахматную игру, чтение художественной литературы. Шахматная игра в абсолютной тишине, при полной сосредоточенности-замечательное средство, тонизирующее нервную систему, дисциплинирующее мысль [8]. Не трать времени на пустяки. Имею в виду пустую болтовню, пустое времяпровождение.
Для этого необходим резерв времени. Он создается, как я уже писал тебе, умелым умственным трудом на лекциях и над конспектами, предотвращением “авральных” дней [7]. Умей самому себе сказать: нет. Тебя окружает масса дел. Есть и научные кружки, и кружки художественной самодеятельности, и спортивные секции, и вечера танцев, и много клубов, где можно провести время. Умей проявить решительность: во многих из этих видов деятельности заключены соблазны, которые могут принести тебе большой вред. Надо и развлечься, и отдохнуть, но нельзя забывать главного: ты труженик, государство тратит на тебя большие деньги, и на первом месте должны стоять не танцы, а труд. Для отдыха я советую шахматную игру, чтение художественной литературы. Шахматная игра в абсолютной тишине, при полной сосредоточенности-замечательное средство, тонизирующее нервную систему, дисциплинирующее мысль [8]. Не трать времени на пустяки. Имею в виду пустую болтовню, пустое времяпровождение.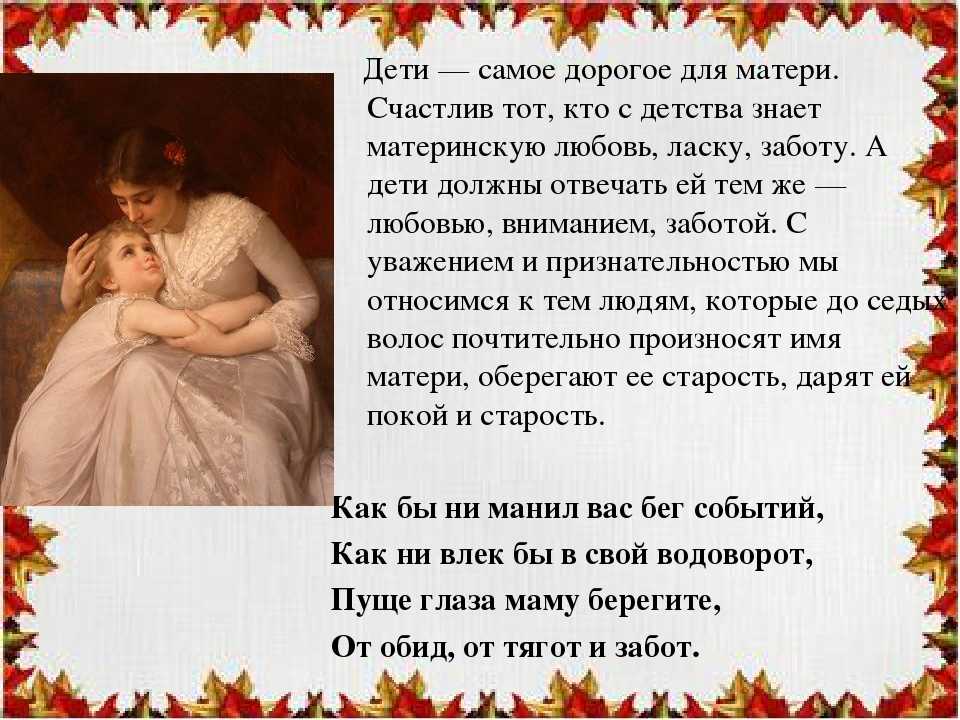 Бывает так: сядут несколько человек в комнате и начинают, как говорится, точить лясы. Пройдет час, два, ничего не сделано, никакая умная мысль не родилась в этом разговоре, а время потеряно безвозвратно. Умей и разговор с товарищами сделать источником своего духовного обогащения [9]. Учись облегчать свой будущий умственный труд. Речь идет о том, чтобы уметь создавать резерв времени в будущем. Для этого надо привыкнуть к системе записных книжек. У меня их сейчас около 40. Каждая предназначена для записи ярких, как бы мимолетных мыслей (которые имеют “привычку” приходить в голову только раз и больше не возвращаются) по одной из проблем педагогики. Сюда же я записываю самое интересное и яркое из прочитанного по этой же проблеме. Все это нужно в будущем, и все это очень облегчает умственный труд. У тебя, я знаю, есть записные книжки, но нет системы. Создавай четкую систему записей. Облегчай свой умственный труд [10]. Для каждой работы ищи наиболее рациональные приемы умственного труда.
Бывает так: сядут несколько человек в комнате и начинают, как говорится, точить лясы. Пройдет час, два, ничего не сделано, никакая умная мысль не родилась в этом разговоре, а время потеряно безвозвратно. Умей и разговор с товарищами сделать источником своего духовного обогащения [9]. Учись облегчать свой будущий умственный труд. Речь идет о том, чтобы уметь создавать резерв времени в будущем. Для этого надо привыкнуть к системе записных книжек. У меня их сейчас около 40. Каждая предназначена для записи ярких, как бы мимолетных мыслей (которые имеют “привычку” приходить в голову только раз и больше не возвращаются) по одной из проблем педагогики. Сюда же я записываю самое интересное и яркое из прочитанного по этой же проблеме. Все это нужно в будущем, и все это очень облегчает умственный труд. У тебя, я знаю, есть записные книжки, но нет системы. Создавай четкую систему записей. Облегчай свой умственный труд [10]. Для каждой работы ищи наиболее рациональные приемы умственного труда. Избегай трафарета и шаблона. Не жалей времени на то, чтобы глубоко осмыслить сущность фактов, явлений, закономерностей, с которыми ты имеешь дело. Чем глубже ты вдумался, тем прочнее отложится в памяти. Пока не осмыслил, не старайся запомнить — это будет напрасная трата времени. Хороши известное умей не читать, а только просматривай. Но вместе с тем опасайся поверхностного просматривания того, что еще не осмыслено. Всякая поверхностность обернется тем, что ты вынужден будешь к отдельным фактам, явлениям, закономерностям возвращаться много раз [11]. Умственный труд одного человека не может быть успешным, если все живущие в одной комнате не договорятся о строгом соблюдении отдельных требований. Прежде всего надо договориться, чтобы в строго определенные часы категорически запрещалось разговаривать, спорить, заниматься делами, нарушающими покой. В часы сосредоточенного умственного труда каждый должен работать совершенно самостоятельно [12].
Избегай трафарета и шаблона. Не жалей времени на то, чтобы глубоко осмыслить сущность фактов, явлений, закономерностей, с которыми ты имеешь дело. Чем глубже ты вдумался, тем прочнее отложится в памяти. Пока не осмыслил, не старайся запомнить — это будет напрасная трата времени. Хороши известное умей не читать, а только просматривай. Но вместе с тем опасайся поверхностного просматривания того, что еще не осмыслено. Всякая поверхностность обернется тем, что ты вынужден будешь к отдельным фактам, явлениям, закономерностям возвращаться много раз [11]. Умственный труд одного человека не может быть успешным, если все живущие в одной комнате не договорятся о строгом соблюдении отдельных требований. Прежде всего надо договориться, чтобы в строго определенные часы категорически запрещалось разговаривать, спорить, заниматься делами, нарушающими покой. В часы сосредоточенного умственного труда каждый должен работать совершенно самостоятельно [12]. Умственный труд требует чередования математического и художественного мышления. Чередуй чтение научной литературы с чтением беллетристики [13]. Умей избавиться от дурных привычек. Я имею в виду вот какие: перед началом работы просиживать без дела пятнадцать, двадцать минут; без какой бы то ни было надобности перелистывать книгу, которую заведомо не будешь читать; проснувшись, лежать в постели минут пятнадцать и др. [14]. “Завтра”- самый опасный враг трудолюбия. Никогда не откладывай на завтра работу, которую надо выполнить сегодня. Больше того, сделай привычкой, чтобы часть завтрашней работы была выполнена сегодня. Это будет прекрасным внутренним стимулом, который задает тон всему завтрашнему дню [15]. Не прекращай умственного труда никогда, ни на один день. Летом не расставайся с книгой. Каждый день должен тебя обогащать интеллектуальными ценностями — в этом один из источников времени, необходимого для умственного труда.
Умственный труд требует чередования математического и художественного мышления. Чередуй чтение научной литературы с чтением беллетристики [13]. Умей избавиться от дурных привычек. Я имею в виду вот какие: перед началом работы просиживать без дела пятнадцать, двадцать минут; без какой бы то ни было надобности перелистывать книгу, которую заведомо не будешь читать; проснувшись, лежать в постели минут пятнадцать и др. [14]. “Завтра”- самый опасный враг трудолюбия. Никогда не откладывай на завтра работу, которую надо выполнить сегодня. Больше того, сделай привычкой, чтобы часть завтрашней работы была выполнена сегодня. Это будет прекрасным внутренним стимулом, который задает тон всему завтрашнему дню [15]. Не прекращай умственного труда никогда, ни на один день. Летом не расставайся с книгой. Каждый день должен тебя обогащать интеллектуальными ценностями — в этом один из источников времени, необходимого для умственного труда. Вот пятнадцать заповедей, которых, мне кажется, должен придерживаться каждый студент. Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения. Твой отец.
Вот пятнадцать заповедей, которых, мне кажется, должен придерживаться каждый студент. Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения. Твой отец.
- Добрый день, дорогой сын!
Ты просишь дать ответ на три вопроса: 1. Каким будет человек при коммунизме? Какую черту я считаю самой важной в человеке будущего? 2. Какой моральный порок я считаю ныне наиболее опасным, наиболее нетерпимым? 3. Какой, на мой взгляд, наиболее серьезный недостаток в воспитании молодого поколения? Первый вопрос. Человек, который будет при коммунизме, уже живет среди нас. Нельзя представлять себе дело так, что наступит торжественный момент, и звон колоколов возвестит о рождении нового человека. Семен Лаврентьевич, о котором я рассказывал тебе,- это уже человек будущего. Обыватели называют таких людей чудаками. Я знаю много таких людей (кстати, у меня есть мечта написать о них книгу). Живет один такой человек у нас в селе, недалеко от школы, ты, наверное, догадываешься, что речь идет об Иване Прокофьевиче. У него — сад для людей. Он — воспитатель полутора десятков детей, живущих на его улице. Целое лето он возится с ними в саду: дети конструируют радиоприемники, играют, поют песни, учатся играть на скрипке… Есть такой человек в соседнем доме — это ушедший в отставку офицер. Он получает солидную пенсию. Можно было бы человеку отдыхать спокойно. Но он трудиться с утра до ночи-для людей… Он пропагандист идей коммунизма. Ежедневно он отправляется в поле, на бригады и фермы, к животноводам и хлеборобам. Рассказывает им о том, что делается в мире. Читает художественную литературу. Работает с людьми непосредственно на производстве два-три дня, потом идет в другую бригаду или на другую ферму. Человек при коммунизме будет, по-моему, прежде всего добрым. Чувствование человека, духовная потребность в другом человеке — вот, на мой взгляд, самая главная черта человека будущего. Глубоко личная заинтересованность в том, чтобы каждый человек, каждый наш соотечественник был духовно богатым, морально красивым, умным, трудолюбивым, умение ценить, уважать, любить самое бесценное в нашей жизни — человека — все это я называю добротой, человечностью.
У него — сад для людей. Он — воспитатель полутора десятков детей, живущих на его улице. Целое лето он возится с ними в саду: дети конструируют радиоприемники, играют, поют песни, учатся играть на скрипке… Есть такой человек в соседнем доме — это ушедший в отставку офицер. Он получает солидную пенсию. Можно было бы человеку отдыхать спокойно. Но он трудиться с утра до ночи-для людей… Он пропагандист идей коммунизма. Ежедневно он отправляется в поле, на бригады и фермы, к животноводам и хлеборобам. Рассказывает им о том, что делается в мире. Читает художественную литературу. Работает с людьми непосредственно на производстве два-три дня, потом идет в другую бригаду или на другую ферму. Человек при коммунизме будет, по-моему, прежде всего добрым. Чувствование человека, духовная потребность в другом человеке — вот, на мой взгляд, самая главная черта человека будущего. Глубоко личная заинтересованность в том, чтобы каждый человек, каждый наш соотечественник был духовно богатым, морально красивым, умным, трудолюбивым, умение ценить, уважать, любить самое бесценное в нашей жизни — человека — все это я называю добротой, человечностью. По-настоящему добрый, человечный человек умеет глубоко, ненавидеть зло, ненавидеть наших врагов — поджигателей войны, растлителей душ молодого поколения. Ненависти нам нужно учить так же, как и доброте. У В. Кожевникова в романе “Знакомьтесь, Балуев” есть замечательные слова: “Мне кажется, что человек умеет работать для собственного удовольствия, испытывая самозабвенное наслаждение от своего труда, то можно считать, что он уже стоит одной ногой в коммунизме”[25]. Влюбленность в труд, самовыражение человека в труде-это коммунистические идеалы в живой реальности нашей повседневной жизни. Коммунизм в человеческой душе мы утвердим тогда, когда не будет в нашей стране ни одного человека, равнодушного к труду, считающего труд лишь средством добывания хлеба насущного. В труде перед человеком открывается безграничное поле самовоспитания, самопознания, самосовершенствования. Благодаря неисчерпаемости труда человек сам будет неисчерпаемым, и совершенствованию его не будет предела.
По-настоящему добрый, человечный человек умеет глубоко, ненавидеть зло, ненавидеть наших врагов — поджигателей войны, растлителей душ молодого поколения. Ненависти нам нужно учить так же, как и доброте. У В. Кожевникова в романе “Знакомьтесь, Балуев” есть замечательные слова: “Мне кажется, что человек умеет работать для собственного удовольствия, испытывая самозабвенное наслаждение от своего труда, то можно считать, что он уже стоит одной ногой в коммунизме”[25]. Влюбленность в труд, самовыражение человека в труде-это коммунистические идеалы в живой реальности нашей повседневной жизни. Коммунизм в человеческой душе мы утвердим тогда, когда не будет в нашей стране ни одного человека, равнодушного к труду, считающего труд лишь средством добывания хлеба насущного. В труде перед человеком открывается безграничное поле самовоспитания, самопознания, самосовершенствования. Благодаря неисчерпаемости труда человек сам будет неисчерпаемым, и совершенствованию его не будет предела. Второй вопрос. Наиболее опасным, наиболее нетерпимым пороком я считаю бесчеловечность, равнодушие к человеку, жестокость. Этого “добра” еще слишком много в нашем обществе. Расскажу об одном случае, свидетелем которого мне недавно пришлось быть. В одном большом надднепрянском селе умерла 92-летняя женщина — мать четырех сыновей, бабушка одиннадцати внуков, прабабушка двадцати двух правнуков. Трудной была ее жизнь. В шести могилах — ив Восточной Пруссии, и в мазурских болотах, и в Карпатах, и под Берлином — ее кровь, на шести солдатских обелисках — ее фамилия, в каждой букве — ее бессонные ночи, волнения и надежды. Самый младший, 50-летний сын, пошел со своими горем и заботами к людям: помогите проводить мать в последний путь. На лесоскладе не нашлось готовых досок для гроба, но нашлись добрые люди: сняли шапки, постояли минуту в молчании, распилили большой сосновый ствол. Бери, сын, строй последний дом матери.
Второй вопрос. Наиболее опасным, наиболее нетерпимым пороком я считаю бесчеловечность, равнодушие к человеку, жестокость. Этого “добра” еще слишком много в нашем обществе. Расскажу об одном случае, свидетелем которого мне недавно пришлось быть. В одном большом надднепрянском селе умерла 92-летняя женщина — мать четырех сыновей, бабушка одиннадцати внуков, прабабушка двадцати двух правнуков. Трудной была ее жизнь. В шести могилах — ив Восточной Пруссии, и в мазурских болотах, и в Карпатах, и под Берлином — ее кровь, на шести солдатских обелисках — ее фамилия, в каждой букве — ее бессонные ночи, волнения и надежды. Самый младший, 50-летний сын, пошел со своими горем и заботами к людям: помогите проводить мать в последний путь. На лесоскладе не нашлось готовых досок для гроба, но нашлись добрые люди: сняли шапки, постояли минуту в молчании, распилили большой сосновый ствол. Бери, сын, строй последний дом матери. Доски надо перевезти. Нет машины, все на работе. Нашлась и тут добрая душа. Остановил сын первую встречную машину, поделился горем. Водитель отложил на полчаса свою поездку, погрузили доски, выехали со двора лесосклада. И здесь произошло странное и дикое. Начальник автоколонны, увидев свою автомашину с досками, увидев водителя, помогавшего за воротами привязать доски веревкой, закричал: — Это что такое? Почему ты не едешь по своему делу? Водитель и сын умершей сказали начальнику: не кричите, опомнитесь — умер человек. Не опомнился, не извинился. Еще больше рассвирепел, затопал ногами, замахал кулаком перед глазами побледневшего водителя, полез в кузов автомашины, сбросил доски на землю. Поехал водитель, а сын стоял возле досок и плакал. За слезами не заметил, как подъехал к нему подводой незнакомый человек — возвращался с маслозавода, услышал шум, остановился, понял все… Сложил доски на воз, прикоснулся к плечу убитого горем и оскорбленного сына, тихо спросил: “Куда везти?” Самый страшный, самый нетерпимый моральный порок-бесчеловечность.
Доски надо перевезти. Нет машины, все на работе. Нашлась и тут добрая душа. Остановил сын первую встречную машину, поделился горем. Водитель отложил на полчаса свою поездку, погрузили доски, выехали со двора лесосклада. И здесь произошло странное и дикое. Начальник автоколонны, увидев свою автомашину с досками, увидев водителя, помогавшего за воротами привязать доски веревкой, закричал: — Это что такое? Почему ты не едешь по своему делу? Водитель и сын умершей сказали начальнику: не кричите, опомнитесь — умер человек. Не опомнился, не извинился. Еще больше рассвирепел, затопал ногами, замахал кулаком перед глазами побледневшего водителя, полез в кузов автомашины, сбросил доски на землю. Поехал водитель, а сын стоял возле досок и плакал. За слезами не заметил, как подъехал к нему подводой незнакомый человек — возвращался с маслозавода, услышал шум, остановился, понял все… Сложил доски на воз, прикоснулся к плечу убитого горем и оскорбленного сына, тихо спросил: “Куда везти?” Самый страшный, самый нетерпимый моральный порок-бесчеловечность. Снова и снова спрашиваешь себя: на какой почве вырастают у нас те, кого трудно назвать людьми? Где причины, рождающие бессердечность, бездушность? Социальных условий, рождающих жестокость, человеконенавистничество, у нас нет. Значит, есть какие-то другие причины. Я с малых лет знаю этого начальника автоколонны. Был Иванко обыкновенным мальчишкой, как и тысячи других, ходил в школу, любил после летнего дождя побродить босиком в лужах, лазил через тыны в сад к соседям — украдкой сорванное яблоко казалось вкуснее, чем яблоки из своего сада. Но было и другое. Были вещи, о которых соседи говорили с возмущением. Вместе с родителями Иванка жила бабушка — мать отца. Невзлюбила ее почему-то невестка. Поселилась старушка в чуланчике, сама себе варила пищу. Часто слышал мальчик от матери: бабушка злая, нехорошая… Как-то на праздник приготовила мать холодное. “Отнеси, сынок, и бабушке,- сказала она мальчику,- вон ту маленькую мисочку, в которую мы косточки обчищали…” Посылает мать по хворост для печи: “Набери, Иванко, сухого хвороста, а мокрый бабушке пусть останется, она не любит, чтобы в хате было жарко”.
Снова и снова спрашиваешь себя: на какой почве вырастают у нас те, кого трудно назвать людьми? Где причины, рождающие бессердечность, бездушность? Социальных условий, рождающих жестокость, человеконенавистничество, у нас нет. Значит, есть какие-то другие причины. Я с малых лет знаю этого начальника автоколонны. Был Иванко обыкновенным мальчишкой, как и тысячи других, ходил в школу, любил после летнего дождя побродить босиком в лужах, лазил через тыны в сад к соседям — украдкой сорванное яблоко казалось вкуснее, чем яблоки из своего сада. Но было и другое. Были вещи, о которых соседи говорили с возмущением. Вместе с родителями Иванка жила бабушка — мать отца. Невзлюбила ее почему-то невестка. Поселилась старушка в чуланчике, сама себе варила пищу. Часто слышал мальчик от матери: бабушка злая, нехорошая… Как-то на праздник приготовила мать холодное. “Отнеси, сынок, и бабушке,- сказала она мальчику,- вон ту маленькую мисочку, в которую мы косточки обчищали…” Посылает мать по хворост для печи: “Набери, Иванко, сухого хвороста, а мокрый бабушке пусть останется, она не любит, чтобы в хате было жарко”.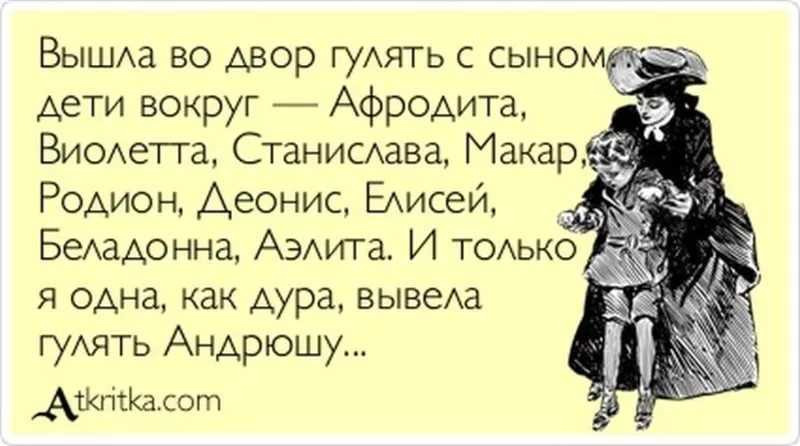 Так понял ребенок, что бабушка — какой-то презренный человек. Летом бабушка просит Иванка: пойди, внучек, на луг, нарви мне щавеля на борщ… Не хочется мальчику идти на луг, бежит он в огород, рвет свекловичную ботву, приносит бабушке. Она плохо видит, крошит ботву, варит борщ. А Иванко рассказывает товарищам, как он бабушку обманул. Смеется над бабушкой: “Слепая, старая; попросила однажды: пойди нарви чебреца пахучего, хочется пол застлать, подышать травяным духом. Я нарвал гороха, съел зернышки, а стебли принес. А она жалуется: господи, раньше и чебрец пахучий был, и щавель кислый, а теперь не то…” Слушают мальчики рассказ Иванка и удивляются: что сказали бы им отцы и матери, если бы сделали они вот такое? Рассказывают об этом дома, идет селом слух о злой невестке и недобром внуке… Прошли годы. Вырос Иванко, пошел в армию. Целым и невредимым прошел через все военное лихолетье. Но не возвратился в родительский дом. Недалеко от села началось строительство большой электростанции.
Так понял ребенок, что бабушка — какой-то презренный человек. Летом бабушка просит Иванка: пойди, внучек, на луг, нарви мне щавеля на борщ… Не хочется мальчику идти на луг, бежит он в огород, рвет свекловичную ботву, приносит бабушке. Она плохо видит, крошит ботву, варит борщ. А Иванко рассказывает товарищам, как он бабушку обманул. Смеется над бабушкой: “Слепая, старая; попросила однажды: пойди нарви чебреца пахучего, хочется пол застлать, подышать травяным духом. Я нарвал гороха, съел зернышки, а стебли принес. А она жалуется: господи, раньше и чебрец пахучий был, и щавель кислый, а теперь не то…” Слушают мальчики рассказ Иванка и удивляются: что сказали бы им отцы и матери, если бы сделали они вот такое? Рассказывают об этом дома, идет селом слух о злой невестке и недобром внуке… Прошли годы. Вырос Иванко, пошел в армию. Целым и невредимым прошел через все военное лихолетье. Но не возвратился в родительский дом. Недалеко от села началось строительство большой электростанции. Устроился Иван в какой-то конторе все время ездил, возил строительные материалы. Быстро пошел вверх — стал диспетчером, потом начальником автоколонны. Понравился кое-кому: с полуслова угадывает желания начальства, все из-под земли достает.
Устроился Иван в какой-то конторе все время ездил, возил строительные материалы. Быстро пошел вверх — стал диспетчером, потом начальником автоколонны. Понравился кое-кому: с полуслова угадывает желания начальства, все из-под земли достает.
Умер отец, умерла бабушка, осталась старая мать. Поселил ее сын в маленьком чуланчике в своем большом каменном доме, поставил печку: готовь, мать, себе пищу, живи себе тихонько, не мешай. Наверное, в эти минуты вспоминает мать о своих наказах Иванку, когда она посылала бабушке холодное… Может быть, вспоминает и о той народной мудрости, которая учит: о душе человеческой заботься тогда, когда ребенок лежит не вдоль, а поперек кроватки… Таких людей, как начальник автоколонны, народ считает уродами. Не за ними будущее. Будущее за теми, кто уже сейчас поднялся на высшую ступеньку коммунистической человечности. Третий вопрос. Наиболее серьезный недостаток, который допускается в воспитании молодого поколения, это, по моему глубокому убеждению, забвение того, что сегодняшний ребенок завтра станет взрослым человеком. У многих родителей, да и у педагогов такой подход к детям, как будто они вечно останутся детьми. Потом хватаются за голову: не заметили, как ребенок стал подростком, подросток-юношей, а юноша ошеломляет отца и мать своим неожиданным намерением жениться… Видеть в маленьком ребенке завтрашнего взрослого человека — вот в этом, мне кажется, и заключается жизненная мудрость отца, матери, педагога — всех, кто воспитывает детей. Другими словами-надо у м е т ь любить детей. “Дети святы и чисты,- писал А. П. Чехов.- Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину… Нельзя делать их игрушкою своего настроения: то нежно лобызать, то бешено топать на них ногами. Лучше не любить, чем любить деспотической любовью”[26]. Деспотическая любовь — это та страшная сила, которая калечит ребенка. Деспотизм родительской любви заключается в том, что “порции любви” отпускаются по настроению: если у отца хорошее настроение — в семье царит всепрощение, ребенку все можно, все разрешается, вплоть до того, что маленький отпрыск бьет кулачком бабушку или показывает ей кукиш-есть и такое.
У многих родителей, да и у педагогов такой подход к детям, как будто они вечно останутся детьми. Потом хватаются за голову: не заметили, как ребенок стал подростком, подросток-юношей, а юноша ошеломляет отца и мать своим неожиданным намерением жениться… Видеть в маленьком ребенке завтрашнего взрослого человека — вот в этом, мне кажется, и заключается жизненная мудрость отца, матери, педагога — всех, кто воспитывает детей. Другими словами-надо у м е т ь любить детей. “Дети святы и чисты,- писал А. П. Чехов.- Даже у разбойников и крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в какую угодно яму, но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину… Нельзя делать их игрушкою своего настроения: то нежно лобызать, то бешено топать на них ногами. Лучше не любить, чем любить деспотической любовью”[26]. Деспотическая любовь — это та страшная сила, которая калечит ребенка. Деспотизм родительской любви заключается в том, что “порции любви” отпускаются по настроению: если у отца хорошее настроение — в семье царит всепрощение, ребенку все можно, все разрешается, вплоть до того, что маленький отпрыск бьет кулачком бабушку или показывает ей кукиш-есть и такое. Если же настроение плохое — отец издевается над ребенком. Мы живем в сложное время. Мир социализма сосуществует с миром капитализма, но в то же время между этими мирами происходит постоянный идейный, духовный, моральный поединок. Сотни тысяч высоко оплачиваемых капиталистами буржуазных идеологов клевещут на нашу страну, волны сотен радиостанций ежедневно извергают миллиарды слов лжи,- и все это преследует цель духовно растлить наше молодое поколение, убедить нашу молодежь в том, что высшей целью человека в любом обществе является материальное благополучие, а не какие-то “эфемерные” идеи. Отлучение советской молодежи от коммунистических идей — такова главная цель буржуазной пропаганды. Дети наши должны быть готовы ко всему. Коммунистическое воспитание не может разнеживать и расслаблять душу гражданина нашего общества. Наоборот, оно должно закалять человека физически и духовно. Я учу не только любить, но и ненавидеть, быть беспощадным к врагу, если он посягает на свободу и независимость нашего Отечества.
Если же настроение плохое — отец издевается над ребенком. Мы живем в сложное время. Мир социализма сосуществует с миром капитализма, но в то же время между этими мирами происходит постоянный идейный, духовный, моральный поединок. Сотни тысяч высоко оплачиваемых капиталистами буржуазных идеологов клевещут на нашу страну, волны сотен радиостанций ежедневно извергают миллиарды слов лжи,- и все это преследует цель духовно растлить наше молодое поколение, убедить нашу молодежь в том, что высшей целью человека в любом обществе является материальное благополучие, а не какие-то “эфемерные” идеи. Отлучение советской молодежи от коммунистических идей — такова главная цель буржуазной пропаганды. Дети наши должны быть готовы ко всему. Коммунистическое воспитание не может разнеживать и расслаблять душу гражданина нашего общества. Наоборот, оно должно закалять человека физически и духовно. Я учу не только любить, но и ненавидеть, быть беспощадным к врагу, если он посягает на свободу и независимость нашего Отечества. Это и есть высшая человеческая красота — вершина гуманизма, подлинной человечности. Человек, которого мы воспитываем и которому быть гражданином коммунистического общества, беречь и хранить наше Отечество, умножать наши материальные и духовные ценности,- этот человек должен быть великим, духовно богатым и красивым во всех сферах жизни, во всех многогранных и неисчерпаемых отношениях. Ему надо быть готовым свершить подвиг не только на поле боя, но и у станка, или за рулем трактора, или на животноводческой ферме. Он должен быть готовым и к тому, чтобы годами ухаживать за больным, прикованным к постели, чтобы, услышав в темную ночь стон одинокого старого человека, прийти к нему на помощь без чьего бы то ни было зова — просто по велению своего сердца. Он должен быть любящим, искренним, чутким, заботливым сыном своей родной матери — без этого он не имеет морального права называться человеком, сыном своей Социалистической Родины.
Это и есть высшая человеческая красота — вершина гуманизма, подлинной человечности. Человек, которого мы воспитываем и которому быть гражданином коммунистического общества, беречь и хранить наше Отечество, умножать наши материальные и духовные ценности,- этот человек должен быть великим, духовно богатым и красивым во всех сферах жизни, во всех многогранных и неисчерпаемых отношениях. Ему надо быть готовым свершить подвиг не только на поле боя, но и у станка, или за рулем трактора, или на животноводческой ферме. Он должен быть готовым и к тому, чтобы годами ухаживать за больным, прикованным к постели, чтобы, услышав в темную ночь стон одинокого старого человека, прийти к нему на помощь без чьего бы то ни было зова — просто по велению своего сердца. Он должен быть любящим, искренним, чутким, заботливым сыном своей родной матери — без этого он не имеет морального права называться человеком, сыном своей Социалистической Родины.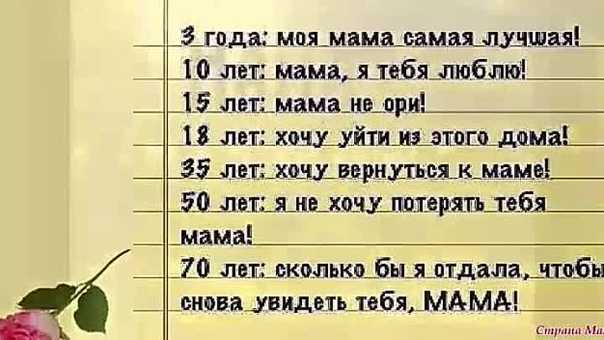 Он должен уметь читать человеческую душу, уметь увидеть, понять, почувствовать разумом и сердцем горе, печаль, волнения своего соотечественника, прийти ему на помощь. Это высшая человеческая грамота, выраженная величественными словами нашего ‑принципа: человек человеку-друг, товарищ и брат.
Он должен уметь читать человеческую душу, уметь увидеть, понять, почувствовать разумом и сердцем горе, печаль, волнения своего соотечественника, прийти ему на помощь. Это высшая человеческая грамота, выраженная величественными словами нашего ‑принципа: человек человеку-друг, товарищ и брат.
Примечания
Письма к сыну
1 См.: Гоголь Н. В. Мертвые души.- Собр. соч.: В 6‑ти т. М., 1953, т. 5, с. т.- 491.
2 Французский скульптор Роден писал: “Настоящий художник выражает то, что думает, не боясь столкнуться с вековыми предрассудками” (Роден. Искусство. Спб., 1914, с. 11).- 491.
3 См.: Гете И.-В. Избр. афоризмы и мысли. Спб, 1903, с. 15.- 492.
4 Слова Андрея Находки из романа “Мать” А. М. Горького: “Я знаю,- будет время, когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет как звезда перед другим!” (Горький М. Поли. собр. соч.: В 25-ти т. М., 1970, т. 8, с. 128.- 492.
5 Приводим этот отрывок по книге X.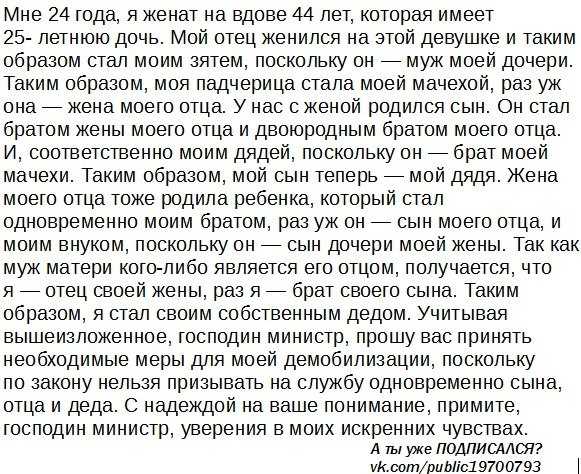 Рузбеха “Сердце, врученное бурям” (М., 1962, с. 172, 173, 175–176): “Умирать в любом случае горько, в особенности для тех, кто верит в свои идеи, чье сердце преисполнено надеждой на будущее. Однако оставаться в живых любой ценой и при любых условиях недостойно человека, ибо на жизненном пути никогда не следует терять свою цель. Если жизнь сохраняется ценой позора и посрамления, потерей чести, отказом от своих идей, своих заветных мечтаний и политических и социальных убеждении, смерть во сто крат благороднее… Я не признаю себя виновным и заслуживающим наказания, тем более смертной казни, но, поскольку под угрозой находится моя честь, я официально прошу уважаемых судей приговорить меня к смертной казни. Эта просьба вызвана только исключительно моим желанием разделить славу героически погибших офицеров и уничтожить опасность, угрожающую моей чести… Вы 01удите Хосрова Рузбеха, но вам не осудить храбрость, доблесть, патриотизм, человеколюбие и самоотверженность”.
Рузбеха “Сердце, врученное бурям” (М., 1962, с. 172, 173, 175–176): “Умирать в любом случае горько, в особенности для тех, кто верит в свои идеи, чье сердце преисполнено надеждой на будущее. Однако оставаться в живых любой ценой и при любых условиях недостойно человека, ибо на жизненном пути никогда не следует терять свою цель. Если жизнь сохраняется ценой позора и посрамления, потерей чести, отказом от своих идей, своих заветных мечтаний и политических и социальных убеждении, смерть во сто крат благороднее… Я не признаю себя виновным и заслуживающим наказания, тем более смертной казни, но, поскольку под угрозой находится моя честь, я официально прошу уважаемых судей приговорить меня к смертной казни. Эта просьба вызвана только исключительно моим желанием разделить славу героически погибших офицеров и уничтожить опасность, угрожающую моей чести… Вы 01удите Хосрова Рузбеха, но вам не осудить храбрость, доблесть, патриотизм, человеколюбие и самоотверженность”. -493.
-493.
6 Маркс К. Коммунизм и Аугсбургская “Algemei’ne Zeitung”.-Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд., т. 1, с. 118.- 495.
7 См.: Островский Н. Как закалялась сталь. М., 1947, с. 335.- 496.
8 Хемингуэй Эрнест. Старик и море.-Собр. соч.: В 4‑х т. М., 1982, т. IV, с. 59.- 496.
9 Автор имеет в виду рассказ Марка Твена “Путешествие капитана Сторм-филда в рай. Вот этот отрывок: “Здесь, как и на земле, наслаждение надо заслужить честным трудом. Нельзя сперва наслаждаться, а зарабатывать право на это после. Но в раю есчь одно отличие: ты сам можешь выбрать себе род занятий, если будешь работать на совесть, то все силы небесные помогут тебе добиться успеха. Человеку с душой поэта, который в земной жизни был сапожником, не придется здесь тачать сапоги” (Твен Марк. Рассказы. М., 1971, с. 310).-498.
10 См.: Слово о книге. М., 1969, с. 232.- 511.
11 Энгельс Ф. Анти-Дюринг.-Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2‑е изд., т. 20, с. 116–5/3.
12 Ленин В. И. Пролетариат и крестьянство.-Поли. собр. соч., т. 12, с 96–513.
И. Пролетариат и крестьянство.-Поли. собр. соч., т. 12, с 96–513.
13 Строки из стихотворения Л. Мартынова “Свобода” (М артынов Л. Первородство. М., 1965, с. 345).- 514.
14 См.: Гете И.-В. Статьи и мысли об искусстве. М.; Л., 1936, с. 17.–514.
15 Об этом говорил В. И. Л е н и н в беседе с К. Цеткин. (Воспоминания о В. И. Ленине. М., 1972, т. 5, с. 46) ‑517.
16 См.: Воспоминания о В. И. Ленине, 1972, т. 5, с. 48.- 518. 17 Гончар О. Прапороносщ,- Твори: В 5‑ти т. К., 1966, т. 1, с. 101.- 520.
17 Слова из статьи В. Г. Белинского “Сочинения Александра Пушкина. (Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13-ти т. М” 1955, т. VII, с. 139; 195).- 523.
18 Там же, с. 266.- 523. 20 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1973, с. 587.- 524.
21 D статье “О карикатуре на марксизм и об “Империалистическом экономизме” В. И. Ленин писал: “…Женщина при какой угодно демократии останется “домашней рабыней” при капитализме, рабыней, запертой в спальной, детской, кухне” (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 126).- 525.
И. Полн. собр. соч., т. 30, с. 126).- 525.
22 Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина.- Полн. собр. соч : В 13-ти т. М” 1955, т. VII, с. 322- 528.
23 Мирон (родился около 50 г. до н. э.)-древнегреческий скульптор. Создал статуи атлетов, победителей в спортивных соревнованиях. Наиболее известная статуя “Дискобол” дошла до нас в римских мраморных копиях.-528.
24 Толстой Л. Н. Недельное чтение.-Полн. собр. соч. М, Л 1928–1958 т. 41, с. 43–44.-5,?8.
25 См.: Кожевников В. Знакомтесь, Балуев. М., 1961, с. 171.–543.
26 Чехов А. П. Ал. П. Чехову. 2 января 1889, Москва.-Собр соч- В 12 ти т. М., 1963, т. 11, с. 314–545.
- 77 тыс. 2
- 0
Красивые цитаты про маму со смыслом (500 цитат)
Мама — это такое необычное слово, состоящее только из четырех букв, но смысл имеет очень большое значение для всех нас. Оно преследует с самого рождения и до самой смерти. Слово «мама» прекрасно звучит на разных языках. Именно в нем присутствует неограниченное количество любви и заботы, подаренное тебе всем сердцем. Мама подарила тебе жизнь. Научила ходить, разговаривать, помогать делать работу по дому, одевает и кормит. Научила ответственности, в конце концов. Мы подготовили для вас самые красивые цитаты про маму со смыслом.
Оно преследует с самого рождения и до самой смерти. Слово «мама» прекрасно звучит на разных языках. Именно в нем присутствует неограниченное количество любви и заботы, подаренное тебе всем сердцем. Мама подарила тебе жизнь. Научила ходить, разговаривать, помогать делать работу по дому, одевает и кормит. Научила ответственности, в конце концов. Мы подготовили для вас самые красивые цитаты про маму со смыслом.
Мама, прости меня, глупенькую. Ты никогда не давала мне плохих советов. А я их игнорировала… а теперь плачу!
— Мама! Мой муж меня обидел. Я еду к тебе!
— Нет, доченька! Зло должно быть наказано! Я еду к вам!
Мужчина должен любить трех женщин: ту, которая его родила; ту, которая ему родит; и ту, которая у него родится.
Мать – это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей.
Теперь, как и всегда, наиболее автоматизированный прибор в домашнем хозяйстве – мама.
Нет того, чего бы не выдержала любовь матери.
Мама — первое слово, мама — главное слово в каждой судьбе.
Хорошая мать дает пасынку больший кусок пирога, чем своему ребенку.
Мама- это человек, который может заменить всех, но ее ни кто и никогда заменить не сможет!
Искусство материнства — научить ребенка искусству жизни.
Никогда не делай маме больно, ведь с каждой слезинкой утекает минутка её драгоценной жизни…
Я — мать, а мать никогда не бывает одинокой.
Мать – это самое трогательное из всего, что есть на земле. Мать – это значит: прощать и приносить себя в жертву.
Мать чаще всего сильнее любит именно то дитя, которое заставило ее больше страдать.
Мать — это самое трогательное из всего, что есть на земле.
Сердце матери — неиссякаемый источник чудес.
А у вас тоже на мобильнике бывает 32 пропущенных вызова от мамы, если вы на 33 минуты забыли телефон в другой комнате?
Мама с тобою всегда, даже когда ты один. Можешь менять города, но ею ты вечно любим.
Мамочка, у тебя была мечта? — Была! — А сейчас? — А сейчас идет рядом и задает вопросы!
Подай мне руку! Мамочка, родная! Ведь я сейчас с бедой наедине! А ты всё слышишь, ты всё знаешь, мама! И как спасенье тянешь руку мне.
Только Мама носит нас: 9 месяцев в животе, до 3-х лет на руках и всю жизнь в своем сердце…
Мама — самая дорогая роскошь в мире. Так будьте добры, цените её.
Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею.
Мама – единственное на земле божество, не знающее атеистов.
Мама, я не забыл, что одиночество — это сад, где ничего не растёт. Даже если сегодня я живу без неё, больше я никогда не буду одинок, пока она где-то существует.
Помните о Маме, ведь только она, будет верить тебе и в тебя.
Человек любит свою мать, почти не сознавая, не чувствуя, потому что это так же естественно, как сама жизнь, и лишь в момент последнего расставания замечает он, как глубоки корни этой любви. Никакая другая привязанность не сравнима с этой, потому что все другие — случайны, а эта врожденная, все другие навязаны нам позднее разными житейскими обстоятельствами, а эта живет с первого нашего дня в самой нашей крови.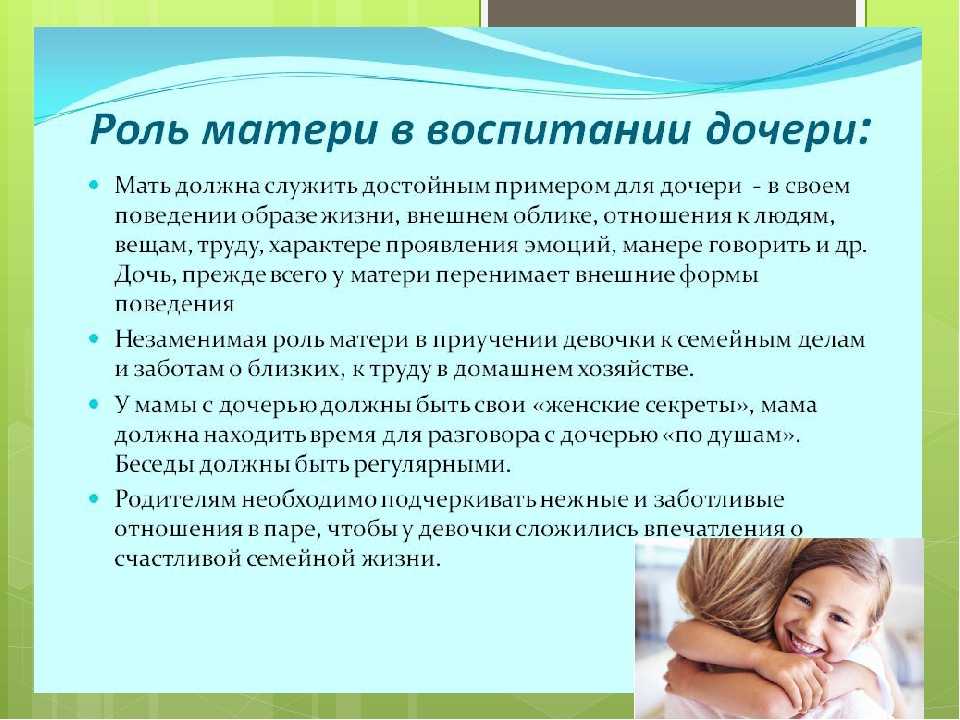 И потом, потом теряешь ведь не только мать, а вместе с нею наполовину уходят само наше детство, ведь наша жизнь, маленькая детская жизнь, принадлежит ей столько же, сколько нам самим. Она одна знала ее так, как мы сами.
И потом, потом теряешь ведь не только мать, а вместе с нею наполовину уходят само наше детство, ведь наша жизнь, маленькая детская жизнь, принадлежит ей столько же, сколько нам самим. Она одна знала ее так, как мы сами.
Восславим женщину-Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир!
Все матери имеют физический недостаток – у них всего две руки.
Материнская любовь — это топливо, которое позволяет обычному человеку совершать невозможное.
Если вы не верите в ангелов… Посмотрите в глаза своей мамы…
Только ребенок знает, как сильно любит его мама, ведь только он видел ее сердце изнутри!
Узнав людей, понимаешь, что стоит любить только маму.
Господи, прости меня за слезы матери!
У того, у кого нет тоски по прошлому, не было матери.
И не нужна мне ваша похвала, мне хватит улыбки мамы и её слова.
Мама учила не материться, жизнь научила не материться при маме…
Родительский дом — место из рая,
где время застыло на стрелках часов.
И мама всем сердцем ошибки прощая,
подарит тебе тепло и любовь!
Взрослеешь, это когда в телефоне изменяешь «Мама» на «Мамочка» и понимаешь, что в Мире нет человека важнее.
Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери.
Если бы миром правили матери, то не было бы чертовых войн, прежде всего!
Любовь матери — это единственная любовь, от которой нельзя ждать измены.
Мать — это не тот человек, которого следует опасаться, но тот человек, который делает чувство опасения ненужным.
Если ты хочешь, чтобы твои дети наконец повзрослели, постарайся повзрослеть первой.
Когда то мама решала, какую одежду мне носить, что хорошо выглядеть. Теперь она спрашивает у меня, какую одежду ей носить, чтобы хорошо выглядеть!
Самое дорогое ожерелье на шее женщины — это руки обнимающего ребенка!
Что в сердце нашем самое святое? Навряд ли надо думать и гадать Есть в мире слово самое простое И самое возвышенное — Мать!
Никакое стороннее сердце не может заменить ребенку сердце матери.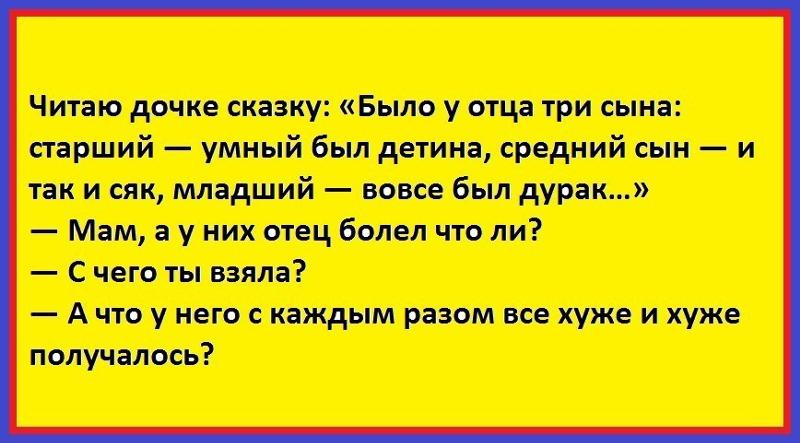
Кто сказал что ангелов не существует? Просто на земле их называют мама.
Материнство – это благословение.
Она мать, и она права.
Сердце матери — бездна, в глубине которой всегда найдётся прощение.
Ты был маминым малышом, когда она по пять раз вставала за ночь к кроватке…ты был маминым малышом, когда впервые допоздна заигрался во дворе в футбол…ты был маминым малышом, когда у тебя появилась девушка и ты пропадал с ней все дни и вечера …и даже сейчас, когда у тебя самого есть ребенок, ты все равно мамин малыш.
Пропущенные вызовы: Папа (1), Брат (1), Мама (48).
Только мама может по двадцать раз спрашивать как дела, чтобы на двадцатый раз услышать правду… и утешить!
Какой смысл любить жизнь, если нельзя познать радость материнства?
Иметь ребёнка — это богатство, быть мамой — великое счастье!
Мама всегда заставит почувствовать нас людьми более высокого класса, чем мы есть на самом деле.
В определенные моменты мозг у женщин отказывает напрочь, и в дело вступает инстинкт материнства.
Шлите им почаще телеграммы, Письмами старайтесь их согреть. Всё на свете могут наши мамы, Только не умеют не стареть.
Пока сама не станешь мамой — не поймешь, как сильно она тебя любит…
Сердце матери видит дальше всех и чует лучше, чем чье-либо другое сердце.
Увы! Приходится постоянно вести сражение с теми, кого обожаешь, — и в любви, и в материнстве.
Первое слово человека – мама, последнее – мама. Мир держится на ласке матерей.
Самый лучший друг-это мама. Она никогда не завидует, не желает плохого. А в глазах её сверкает любовь и гордость за своего ребёнка!
Святость жизни начинается с материнства, и поэтому оно священно.
Не то тревожит мать, что знают молодые девушки, а то откуда они это узнали.
Мама – вот слово, что все понимают. Каждый своё что-то с ним вспоминает. С мамою связаны все наши дни, Маму забыть не дадут нам они.
Устами наших матерей с нами говорит Бог.
Мама — это самое красивое слово, произнесенное человеком.
И когда матери целуют своих детей, и когда ругают, они любят их одинаково.
Сердце матери – это вселенская бездна любви, заботы и всепрощения.
Где же тот человек, который будет поддерживать в трудную минуту. вытаскивать из ямы, когда мне плохо, где же ты??? — ой, мамочка моя, я не тебя сейчас звала! Хотя спасибо конечно!
Моя мама была самой красивой женщиной, которую я знал. Тем, кем я стал, я обязан своей матери. Все мои успехи в этой жизни, моральное, интеллектуальное и физическое воспитание я ставлю в заслуги маме.
Дай Бог здоровья каждой маме, чьих детей я называю друзьями.
Только мама ради своих детей способна на невозможное.
Что может быть на свете священнее имени матери! Все самые дорогие святыни названы и озарены именем матери, потому что с именем этим связано и само понятие жизни.
Мама – первое слово человека, который только явился в мир. Так, может быть, оно и было первым словом всего человечества? Не с него ли и не с ему ли подобных «детских» слов начался в глубокой древности наш язык?
Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может чувствовать.
Все женщины похожи на своих матерей, и в этом их трагедия, но ни один мужчина не похож на свою мать, и в этом тоже его трагедия.
Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми.
Всё отдам, лишь бы Моя Мама была счастлива, и плакала тоже лишь от счастья.
Мама, тебе я доверяю от опасностей этого предательского мира укрыть мою беззащитную лодку. Всем своим счастьем я обязан твоей материнской нежности.
Материнское сердце чаще бьется.
Когда мама спрашивает — почему такой бардак в комнате? Надо отвечать: «Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом».
Не важно, сколько вам лет и чего вы добились: вам все равно нужна мама. Я не исключение: мне тоже нужна. Так что не ссорьтесь с ней всерьез и прислушивайтесь к ее советам. Лучше проиграть спор, чем потом жалеть о том, что выиграли.
Слово «мама» понятно всем.
Неблагодарный сын хуже чужого: это преступник, ибо сын не имеет права быть равнодушным к матери.
Между справедливостью и матерью я выбираю мать.
Став матерью, женщина навсегда лишает себя права быть слабой.
Господь не может поспеть всюду одновременно, и поэтому он создал матерей.
Мама солнышком светит в ночи, мама самый яркий мой лучик, милая мама за все извини, милая мама любимая мама.
Я завидую только одному человеку на всём белом свете…Это своей Маме потому что у неё такая умная и красивая дочь.
В твое жизни может быть несколько подруг…в твоей жизни может быть несколько мужей…может так случиться, что в твоей жизни будет несколько отцов…но мама всегда будет только одна…
Примерно к 18 годам я поняла, что маму стоит всегда слушаться, но много было уже не исправить.
Сердце матери — это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение.
Мама — это человек, который может заменить всех, но её никто и никогда заменить не сможет.
Каждая мать должна помнить, что однажды ее дочь будет следовать ее примеру, а не ее совету.
Как бы ни любил ты мать, привыкаешь к ее заботе, не догадаешься и отблагодарить, забываешь, что мать сама нуждается и в ласке, и заботе.
Я боюсь на свете одного, того что я приду однажды домой, скажу ″мам я дома″, а в ответ услышу только тишину.
Материнство достойно уважения. Отец — всегда только случайность.
Ребёнок должен быть с матерью, даже если следующий шаг — неизвестность.
Я живу ради Мамы, т.к. она живет ради меня… И отдать жизнь я готов за Маму, ведь она готова отдать её за меня!
Воспитание ребенка – не приятная забава, а работа, в которую нужно вложить усилия бессонных ночей, капитал тяжелых переживаний и множество размышлений…
Легко ли быть мамой? -Да! Если рядом есть хороший папа.
Мама — это единственный человек, который знает тебя на 9 месяцев больше, чем все остальные.
Спасибо, мама, за тепло и доброту. Спасибо за любовь твою без края. Я Бога за тебя благодарю. Спасибо, что ты есть, моя родная.
Мама – это самое красивое слово, произнесенное человеком.
Мама одного ребенка наивна и неопытна, как новобранец. Мама двух детей спокойна и уверенна, как дембель.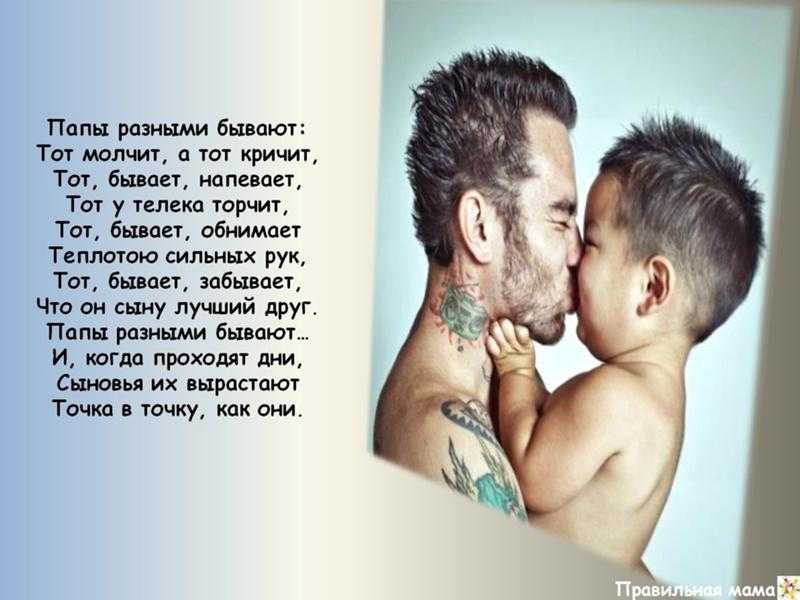 Мама трех детей — это СПЕЦНАЗ!
Мама трех детей — это СПЕЦНАЗ!
Мама – единственное чудо природы, с которым бессильна нас разлучить даже смерть.
В школе выставили оценки за четверть, ребенок, заглядывая маме в глаза: -Главное ,мам, чтоб мы были здоровы, правда?
Единственная любовь, в которую я верю – это любовь матери к своему ребенку.
На маму не кричи, она не виновата, что у тебя не все как надо…
Единственная женщина, которая не позволит отдать за нее жизнь, – это мать.
Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична и в то же время бескорыстна. Она ни от чего не зависит.
Взрослыми становятся, не когда перестают слушать маму, а когда понимают, что она была права!
Дети – якоря, которые удерживают мать в жизни.
Самый быстрый способ для матери привлечь внимание детей – сесть и сделать вид, что тебе хорошо.
Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги: их любовь во сто крат горячей, чем друзей и любимой подруги.
Только тогда, когда мама уходит к Богу, мы понимаем, что прожили жизнь с Божеством!
Птица радуется весне, а младенец — матери.
Мама забыла покормить рыбок, за это рыбки маме сдохли.
Будущее нации – в руках матерей.
Сердце матери – это единственный несгораемый капитал, которым всегда и в любое время можно расплатиться.
Многодетная мать могла бы легко заменить нескольких авиадиспетчеров.
Многие женщины почему-то думают, что родить ребенка и стать матерью – одно и то же. С тем же успехом можно было бы сказать, что одно и то же – иметь рояль и быть пианистом.
Как бы ни любил ты мать, привыкаешь к ее заботе, не догадаешься и отблагодарить, забываешь, что мать сама нуждается и в ласке, и заботе.
Моя мама обычно говорила мне, что если ты не можешь найти то, ради чего стоит жить, лучше найти то, за что стоит умереть.
Первый подарок, который дает нам мать,- это жизнь, второй- любовь, и третий- понимание.
Всю жизнь мама внушала мне, что человек должен быть полезным. Она была уверена, что дарить любовь гораздо важнее, чем её получать.
В нашей семье слово отца было закон. Слово мамы было другой закон. Иногда эти законы друг другу противоречили, и определить, кто прав, а кто дурак, помогал только скандал.
Слово мамы было другой закон. Иногда эти законы друг другу противоречили, и определить, кто прав, а кто дурак, помогал только скандал.
Фразу: «Эх, говорила мне мама…» можно понять только в определенном возрасте, имея порядочный жизненный опыт… Только не в 16 лет, только не в 16, чтобы там мама не говорила.
Я теперь лучше понимаю свою маму. Родитель — это такая профессия, в которой невозможно преуспеть. Нужно ограничиться тем, чтобы причинять как можно меньше зла.
Самая сильная вещь на свете от зла — это материнская молитва.
Цитаты про маму со смыслом — Мама твои глаза должны сиять! Не плакать, не страдать!
Ни в коем случае нельзя быть матерью-неудачницей, нет ничего хуже для детей.
Биться об заклад с мамой — это не азартная игра, это вложение средств.
Мама – самый родной, самый близкий и бесценный человек на свете. Она крепко любит, всегда приласкает и пожалеет, защитит и сохранит от всех бед. «Мама!» — мы произносим, когда больно или страшно. Мама необходима и в минуты счастья.
Люби своего ребенка любым — не талантливым, не удачливым, взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой.
Спасибо, мама, за тепло и доброту. Спасибо за любовь твою без края. Я Бога за тебя благодарю. Спасибо, что ты есть, моя родная.
Только мать может… точно рассчитать время разлуки со своим любимым сыном.
Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство – мужественно.
Мать понимает ребенка без слов.
Матери для любви своих детей ничего не требуется, кроме того, что она мать.
Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение.
От скольких глупых и недобрых поступков нас уберегла мысль: «А что я скажу маме?»!
Самая лучшая мать та, которая может заменить детям отца, когда его не станет.
Пускай проносятся года, мелькают вереницы дней, но ни за что и никогда не обижайте матерей… Не обижайте никогда, сумеет сердце растерзать, сквозь километры и года родная, плачущая мать…
Только у мамы самые ласковые руки, самая нежная улыбка и самое любящее сердце…
Я верю в любовь с первого взгляда — я полюбила маму с того самого момента, как только открыла свои глаза.
Женщина с золотым сердцем, икона с ликом святой – вот ты кто для меня, мама…
Самая сильная связь в жизни женщины – это ее ребенок.
Мама маленькому сыну: — Вот подумай, я дала тебе жизнь, ухаживаю за тобой, помогаю, учу, а ты что для меня сделал? — А я сделал тебя мамой…
В 10 лет — мама всё знает, в 16 лет — мама не всё знает, в 20 лет — мама вообще ничего не знает, в 30 — надо было слушать маму…
Рука, качающая колыбель, правит миром.
Войны прокляты матерями.
Никто не способен перекричать материнское сердце.
Мы любим своих матерей, почти не задумываясь об этом, и не осознаем всей глубины этой любви, пока не расстанемся навсегда.
Мать, которая действительно мать, никогда не свободна.
Бесконечное, глубокое, теплое, спасительное счастье — сидеть возле колыбели своего ребенка, напротив матери.
Мать — творит, она охраняет, и говорить при не о разрушении — значит говорить против нее. Мать — всегда против смерти.
«Мама» — это синоним слова «любовь».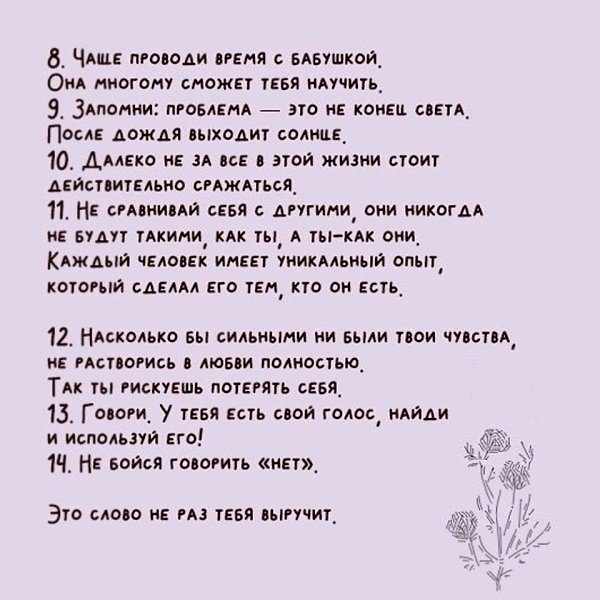
«Мама! » — это единственное слово, которое каждый из нас кричит в минуты боли, отчаяния и наслаждения…
Для каждого ребёнка лучшее лекарство, это — мама. Прижмёт к груди, погладит по голове, поцелует ушибленное место, подует на сбитую коленку и все болезни, как рукой снимет.
Не обижайте матерей, На матерей не обижайтесь. Перед разлукой у дверей Нежнее с ними попрощайтесь.
Мама, милая моя! Как же я люблю тебя! Обожаю всей душой, оставайся молодой!
Для многих счастье — это два литра. А для многих — это всего два грамма. А для меня счастье — это видеть, как улыбается моя Мама!
Иногда, я просто без слов подхожу и обнимаю мою маму…очень крепко. Вокруг меня много людей, но, к сожалению, кроме её я не могу больше никого обнять…не тянет…не доверяю…
Любовь матери не знает измен. Мама – это единственный человек, который всем сердцем и душой предан собственному ребенку.
Мамочка, прости меня, что тебя так огорчала. Я тогда не понимала, как боишься за меня… Как же ты переживала, что уроки не учила, на свиданья убегала, что хотела, то творила… Я клянусь, что лучше стану… И всю жизнь свою исправлю.
Материнство выше любви.
Берегите сердце матери, ведь больше никто не будет вас так сильно и искренне любить.
Милая мама, мы друг друга порой не совсем понимали, даже ссорились, души жестоко раня, только знай, что тревоги твои и печали почему-то всё ближе теперь для меня.
Люблю свою маму, скажу я вам прямо, ну просто за то, что она — моя мама!
Мамочка, любимая, родная, Сокровище бесценное мое, Нет ничего на свете мне дороже, Чем сердце материнское твое. Я портрет бы твой золотом вышила, Лишь бы ты еще краше была. Крикну я, чтобы все вокруг слышали: «Я хочу, чтоб ты вечно жила».
Мама самая хорошая, я ведь на нее похожа… И такой мамули нет- хоть пройти весь белый свет.
Дети как цветы – нужно к ним нагнуться, чтобы узнать их…
Матери носят ключи от наших душ с собой всю жизнь.
Мне искренне жаль бывает тех женщин, которые обкрадывают себя, не желая иметь детей. Ребенок наполняет жизнь женщины огромным содержанием. С первого дня рождения ребенка мать живет его дыханием, его слезами, его улыбкой.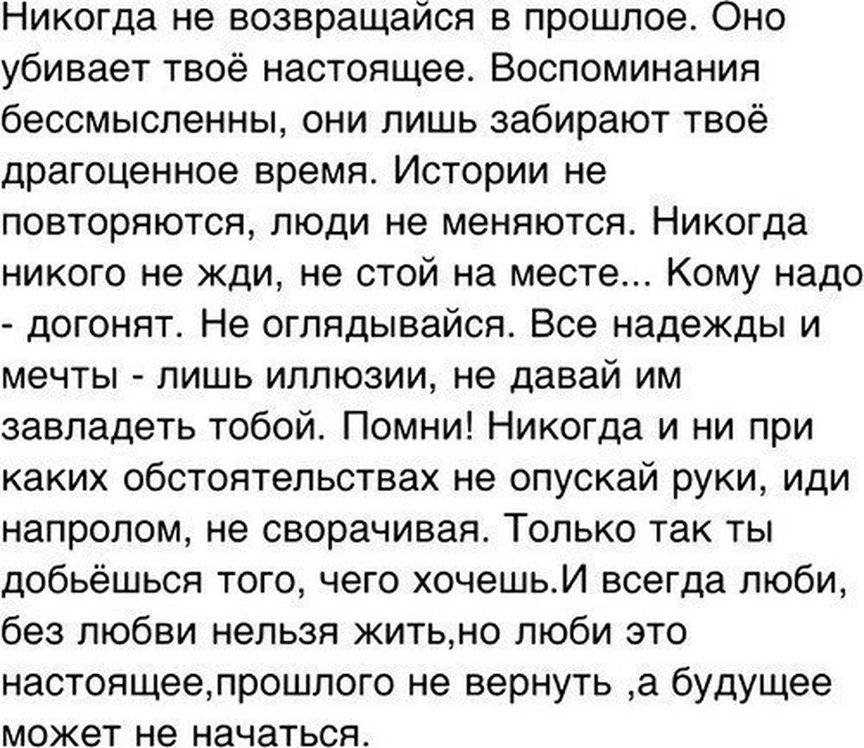 Вот у ребенка прорезался первый зуб. Он впервые сказал «мама». Вот он сделал первый шаг, пошел в школу, стал пионером, его приняли в комсомол… Каждая ступень в развитии ребенка – это и новая полоса в жизни матери.
Вот у ребенка прорезался первый зуб. Он впервые сказал «мама». Вот он сделал первый шаг, пошел в школу, стал пионером, его приняли в комсомол… Каждая ступень в развитии ребенка – это и новая полоса в жизни матери.
Вы действительно не понимаете человеческую природу, если не знаете, почему ребенок на карусели машет своей маме на каждом круге, и почему его мама всегда машет ему вслед.
Дочь – шанс исправить свои ошибки…
Если бы юноши знали о девушках то, что знают их матери, мир был бы полон холостяков.
И если бы меня спросили, кому бы я не боялась всё на свете рассказать — я бы сказала гордо это слово «Мама».
Наверняка проще организовать эвакуацию целого города, чем работающей матери поднять и спровадить детей в школу.
Не знаю ничего красивей достойной матери счастливой с ребёнком малым на руках…
Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в удачу, которые нередко приводят к действительному успеху.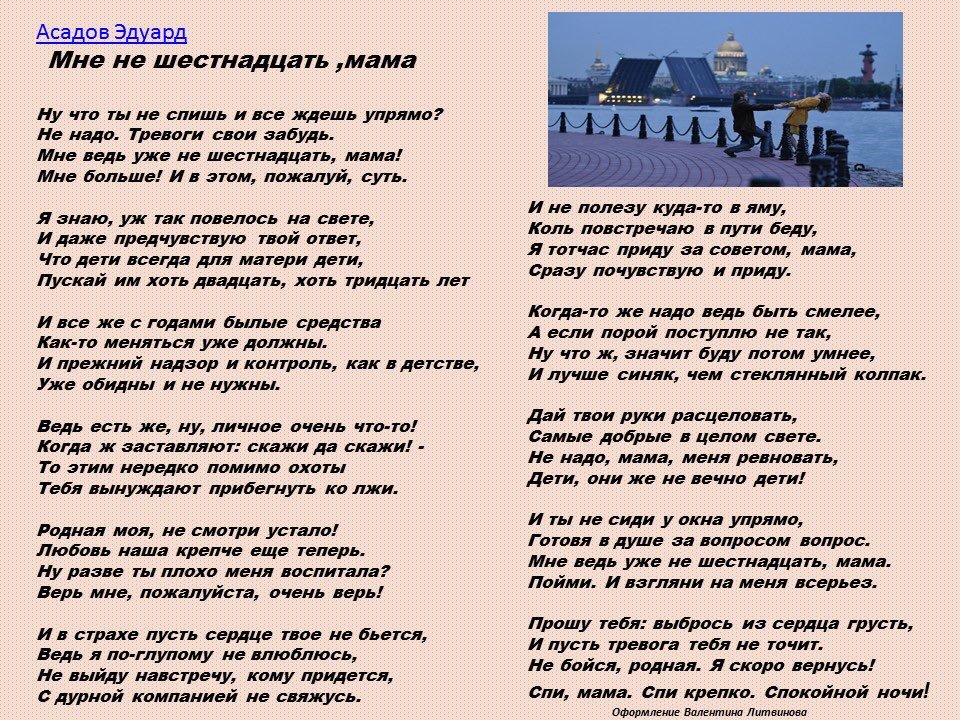
Спасибо мама за твои теплые слова. За то, что ты посвятила мне себя. Ты для меня одна. Ты – моя семья.
Мать, она не может много чему научить сына. Потому что она сама не была мальчиком.
Материнская любовь очень трогательна, разумеется, но она часто бывает крайне эгоистична.
Каждая мама абсолютно уверена, что жених дочери получше ее отца, а вот жене сына никогда не сравнится с ею самой.
Мама всегда хотела, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось — толк вышел, а бестолочь осталась…
Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в удачу, которые нередко приводят к действительному успеху.
Летние лагеря для детей — лучший отдых для матери.
Целые века стараний алхимиков не смогли сотворить жизнь! Но женщина способна это сделать всего за 280 дней!
Если тебе никто не позвонил вечером, всегда можно набрать маму и пожаловаться.
Когда мы становимся совсем взрослыми нашим мамам становится страшно…а вдруг они нам больше не нужны…? Давайте не позволим им так думать!
Сейчас ты считаешь, что мама тебя совсем не понимает и не хочешь с ней общаться, когда она просит.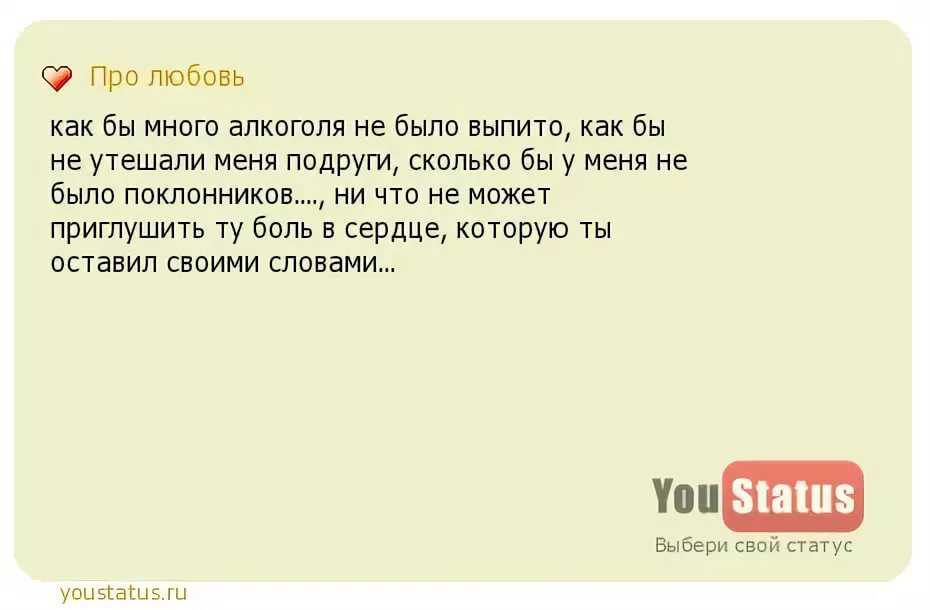 А когда-то ты долгими вечерами сидела у окна и ждала только одного — когда мама придет с работы…конечно, ты этого не помнишь…
А когда-то ты долгими вечерами сидела у окна и ждала только одного — когда мама придет с работы…конечно, ты этого не помнишь…
Лучший комплимент маме похвалить ее ребенка!
Без мамы очень тяжело, И меркнет всё вокруг. Родней на свете нет её. Она – твой близкий друг.
Родительский дом – это место из Рая… Где время застыло на стрелках часов… И мама, всем сердцем ошибки прощая, подарит тебе теплоту и любовь!
Не стоит на маму злиться и говорить ей обидные слова, даже в пылу спора. Ведь одно нечаянно брошенное слово способно не просто ранить, а разбить материнское любящее сердце.
Ребенок перед тем, как родиться, сказал Богу: — Мне страшно, а вдруг я не смогу?…- Сможешь. Я дам тебе Ангела!…- А как его зовут?…- Неважно, ты будешь называть его МАМА!…
Дорогая Мамуля, родная моя! Пусть жизнь ласкает одну лишь тебя, проблем пусть не дарит, хлопот и невзгод, балует пусть счастьем лишь круглый весь год.
Я соберу улыбки со всего мира и принесу их тебе, пусть все грустят, лишь бы ты улыбалась, мама…
Самое лучшее успокоительное — мама.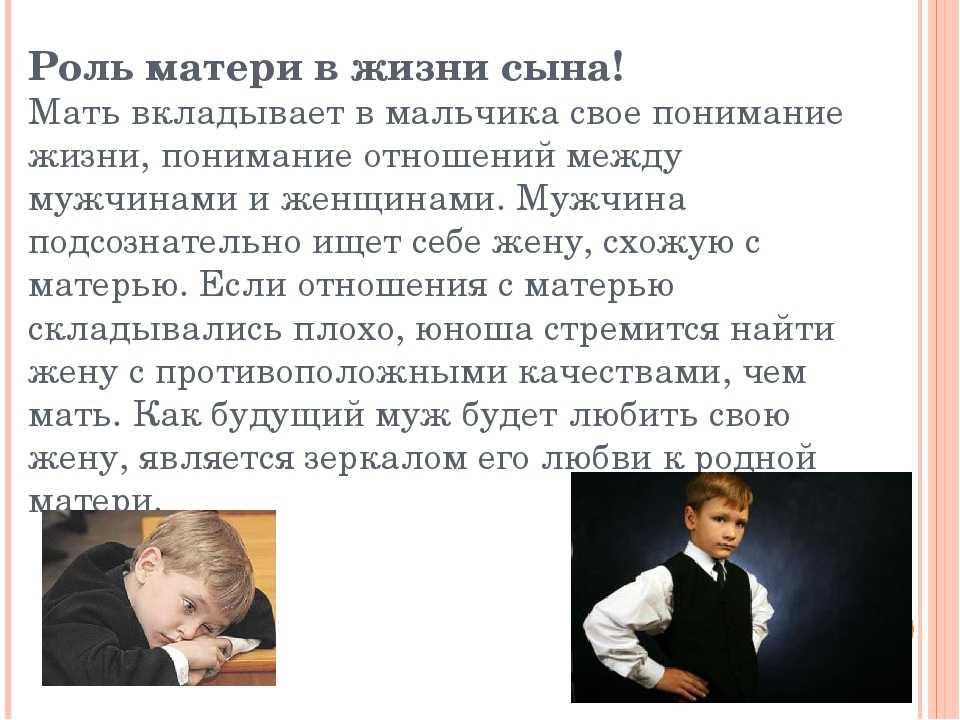 Сидишь, ревешь, а она подойдет, обнимет и скажет, что все будет хорошо.
Сидишь, ревешь, а она подойдет, обнимет и скажет, что все будет хорошо.
Вся радость жизни умещается в улыбке ребенка!
Материнство – это работа, плата за которую – счастье.
Быть мамой – не просто работа, быть мамой – не просто мечта… Стать самой родной для кого-то доверил мне Бог неспроста…
Двигаюсь без шума, вижу в темноте, слышу издалека, могу не спать сутками… Я — ниндзя? Нет, я — МАМА!!!
Сердце матери широко. Для всех детей есть в нем место.
Быть мамой девочки – это нежность и постоянное проявление чувств. Это «люблю маму, папу и слоника» и бесконечные «ах, я касивая» перед зеркалом.
Мать – это такая же работа, как для мужчины его профессия.
Женщины бывают так несчастны на склоне своей красоты только потому, что они забывают, что достоинство матери назначено для замены красоты супруги.
Быть мамой — самая приятная работа! Зарплату платят поцелуями.
Мамы как пуговки – на них все держится.
Мать – наш самый близкий и самый родной человек до гробовой доски – ее ли, нашей ли, – от нее мы получаем и самое жизнь, и все, что за этим следует, – силу, любовь, уверенность в себе. Мать учит нас правилам людским, оживляет ум наш, вкладывает в уста наши доброе слово, а память осеняет своими беспрекословными наставлениями о самом дорогом и человечном, что было до нас.
Мать учит нас правилам людским, оживляет ум наш, вкладывает в уста наши доброе слово, а память осеняет своими беспрекословными наставлениями о самом дорогом и человечном, что было до нас.
Никогда счастье не бывает таким полным, как в периоды любви и материнства.
Любовь между мужчиной и женщиной – чувство человеческое: оно рождается, живет и умирает… Материнская любовь – божественное чувство: она бессмертна.
Какая мать не пожертвует собой и кем угодно еще ради счастья своей дочери?
Не используй остроту своей речи на матери, которая научила тебя говорить.
Любовь мамы — уютный дворик, в котором всегда тепло и солнечно.
Я не ищу вторую половинку, так уж вышло, меня мама целой родила!
Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем.
Я стала мамой! — давно представляла, как скажу эту фразу. Всего три слова, а сколько смысла. Теперь лишь нужно вырастить человека — и я буду счастлива.
Сердце матери… Ну где, где набрать слов, чтоб спеть песнь материнскому сердцу?
Именно наблюдения за дочкой, за тем, как она взрослеет, во многом помогли мне принять тот факт, что я старею. Я вижу в ней себя и стараюсь помогать ей познавать этот мир. Мне с ней очень хорошо.
Я вижу в ней себя и стараюсь помогать ей познавать этот мир. Мне с ней очень хорошо.
Каждая мать должна помнить, что однажды ее дочь будет следовать ее примеру, а не совету.
Каждая мать должна выкроить для себя несколько минут свободного времени, чтобы помыть посуду.
Первый подарок матери — жизнь, второй — любовь, и третий — понимание.
Есть особый талант — талант материнства.
Только мама, задав вопрос: «Как дела?» и услышав в ответ: «Все в порядке», десять раз переспросит:
«Точно?!».
Сердце женщины, родившей и выраставшей своего ребенка, готово сотворить настоящие чудеса ради своего малыша.
Хорошо быть мамой, ты всегда точно знаешь, чего хочешь… СПАТЬ!
Ночь — личное время мам! Делай, что хочешь! Можно утренний чай допить, сходить в туалет и причесаться!
Если вы, замерзнув ночью, вместо того, чтобы натянуть на себя одеяло, идете и проверяете, не замерзло ли ваше чудо — Вы мама!
Как волшебно и чудесно просто МАМОЙ быть! Эти ножки, эти ручки… ну как их не любить!
У меня есть Ангелочек и зовут его Сыночек. У Сыночка есть охрана и охрана его — Мама!
У Сыночка есть охрана и охрана его — Мама!
Воспитание – это пример и любовь, больше ничего…
В интернете у тебя 500 друзей, на свадьбе 100, на дне рождения 10. А когда у тебя проблемы – всего один. И, скорее всего, это будет мама.
Материнская молитва со дна моря вынимает.
Перерезанная пуповина не обрывает связь между мамой и ребенком – она продолжает существовать до ухода из жизни мамы.
Материнские руки — воплощение нежности.
Мир был бы лучше, если бы все вели себя так, как будто на нас смотрит мама.
Отец может вырастить из ребенка гения, но только мать вырастит из него хорошего человека, органично сочетающего душевные и физические способности. Вот почему так важно материнское воспитание в раннем возрасте.
Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную…
Заботливость – это когда думают о других. Пример: одна женщина застрелила мужа из лука, чтобы только не разбудить детей.
Пример: одна женщина застрелила мужа из лука, чтобы только не разбудить детей.
Ты мне так нравишься в твои девятнадцать. Мне нравится твоя взрослая душа. Душа, которая умеет болеть и выздоравливать. Слышать и понимать. Душа, которая умеет плакать со мной обо мне, с собой о себе. Трепетный мой ангел, заносящий ножку на клумбу всеобщей моды на стервозность. Теперь на тебя не надо даже смотреть с укоризной. Мой взгляд у тебя перед глазами и так. Ты пробуешь пределы на прочность, но не переступаешь их. Моя девочка.
Руки матерей сотканы из нежности — дети спят на них спокойным сном.
Каждая мама абсолютно уверена, что жених дочери получше ее отца, а вот жене сына никогда не сравнится с ею самой.
Потерять отца — значит потерять верного советчика и наставника, того, кто поддерживал бы тебя, как ствол — ветки. Потерять мать — это… все равно что потерять солнце над головой.
Мамуля, ты меня растила, заботилась обо мне, работала ради меня и вкладывала в меня все силы и душу. Теперь ты на пенсии и тебе надо больше отдыхать, а я постараюсь сделать твою жизнь такой же сказочной и безоблачной, какая была у меня в детстве!!!
Теперь ты на пенсии и тебе надо больше отдыхать, а я постараюсь сделать твою жизнь такой же сказочной и безоблачной, какая была у меня в детстве!!!
Вздыхают матери в тиши, В тиши ночей, в тиши тревожной. Для них мы вечно малыши, И с этим спорить невозможно.
Мамы дарят нам жизнь… И самое страшное для них – когда мы этим бесценным даром пренебрегаем…
Выплюнуть человека на свет, не значит стать его матерью.
Не та Мать хороша, что балует ребёнка, а хороша та, что не дала волю соблазнам.
Самый лучший друг — это мама. Она никогда не завидует, не желает плохого. А в глазах её сверкает любовь и гордость за своего ребёнка!
Почему лошадь устает , а мама нет? Потому что мама не лошадь!
Дети — это радость, дети — это счастье, дети — это в жизни свежий ветерок. Их не заработать, это не награда, их нам по благодати дарит Бог.
Наливаю кофе, достаю шоколадку, беру любимую книгу и закрываюсь на кухне на полчаса. — Мам, ты что там делаешь? — Дети, не мешайте, я делаю для вас добрую маму…
Мама — одно слово, четыре буквы, вечный смысл…
В мире две беды: на одной из них я женился, а вторая — ее мама!
Кажется, мама делает только то, чего хочет папа, и все-таки мы живем так, как хочется маме.
Слово «МАМА» — дорогое! Мамой надо дорожить! С ее лаской и заботой легче нам на свете жить! — Цитаты про маму со смыслом.
Материнство, как ипотека: если влез, то на всю жизнь.
Раньше, когда я слышала истеричный плач ребенка у соседей, я думала его там режут, а теперь поняла, что это всего-то: «упала игрушка», «хочу есть», «одевают шапку», «выгнали из туалета, не дав дочистить стены ершиком», или «не дают мамин телефон».
Самое прекрасное и искреннее, находится в улыбке новорожденного ребёнка.
Мама смотрит на дочку и пытается привыкнуть к своему счастью. Но как к нему, к такому счастью, можно привыкнуть? Это теперь удивление на всю оставшуюся жизнь: я — мама дочери.
Даже муки беременности, родов и прочего не могут омрачить тех минут счастья, когда смотришь на это маленькое создание и понимаешь, что это твой ребенок!
Как замечательно быть мамой и в глазки детские смотреть, держать на ручках свое чудо и слышать звонкий детский смех!
Я расцелую тёплый пузик и щёчки пышечки опять! Вот мой любимый карапузик! С тобой счастливейшая мать!
Каким же не важным становится все вокруг – деньги, карьера, зависть, шмотки, машины… когда рядом с тобой тихонько сопит маленькое сокровище!
Мамочка — фея моя и жар—птица, солнышко в небе, ночная звезда. Мне без тебя жизнь не праздник, а пытка. Очень горжусь, что я дочка твоя!
Мне без тебя жизнь не праздник, а пытка. Очень горжусь, что я дочка твоя!
Твоя девочка выросла, мама, выросла. И никогда не упрекает тебя и не попрекает прошлым и не судит за ошибки.
Словно рушится мир и так хочется к маме, чтоб хотя бы на вечер ребёнком побыть, чтоб в носках шерстяных и любимой пижаме, с ней на кухоньке чай с печенюшками пить…
Любви достойна только мама. Мамочка моя, люблю тебя очень сильно.
Спасибо, Мама, за тепло и доброту. Спасибо за любовь твою без края. Я Бога за тебя благодарю! Спасибо, что ты есть, моя родная.
Мама – твои слезы упущение мое… Я бываю нехорошей, но мне нет тебя дороже…
Девять месяцев «марафона» ничто, по сравнению с вашим призом.
Что самая сладкая сладость на свете? Сахар — могла я когда-то ответить. Мёд, мармелад, пастила и щербет. Только теперь поняла я ответ. Родного ребёночка — запах макушки, что остаётся на нашей подушке, пальчики нежные и ноготки, попка, коленочки и локотки.
Чтобы найти свою любовь можно сотворить новую жизнь… Быть мамой — это невероятно!
Дети — это заботы, трудности, крик, шум, бардак. Но когда подходишь к ним спящим, поправляешь одеялко, целуешь в носик, щёчки, и понимаешь, что это самое большое счастье в жизни!!!
Но когда подходишь к ним спящим, поправляешь одеялко, целуешь в носик, щёчки, и понимаешь, что это самое большое счастье в жизни!!!
Рождение ребенка отнимает у женщины много сил, здоровья, времени. Но взамен дарит много счастья, любви, нежности.
Самые ценные подарки кладутся в конверт… и выносятся из роддома!
Счастье нельзя купить. но его можно родить!
День рождения ребенка — это тот единственный самый счастливый день, про который женщина может сказать: Это было ужасно!!!
Только когда подходишь к кроватке, где спит твой маленький малыш, понимаешь по-настоящему что такое счастье …
Самое приятное в жизни – это видеть свою маленькую копию, которая улыбаясь ползает по ковру и понимать насколько ты его любишь!
Ты ведь знаешь, я очень хочу быть хорошей. Мам, я, наверное, просто взрослею.
Мама — первое слово, мама — главное слово в каждой судьбе.
Среди привычного обмана, среди словесного тумана, я вдруг почувствовала, как много для человека значит мама…
Прежде чем говорить что-то про женщину, подумай о своей матери.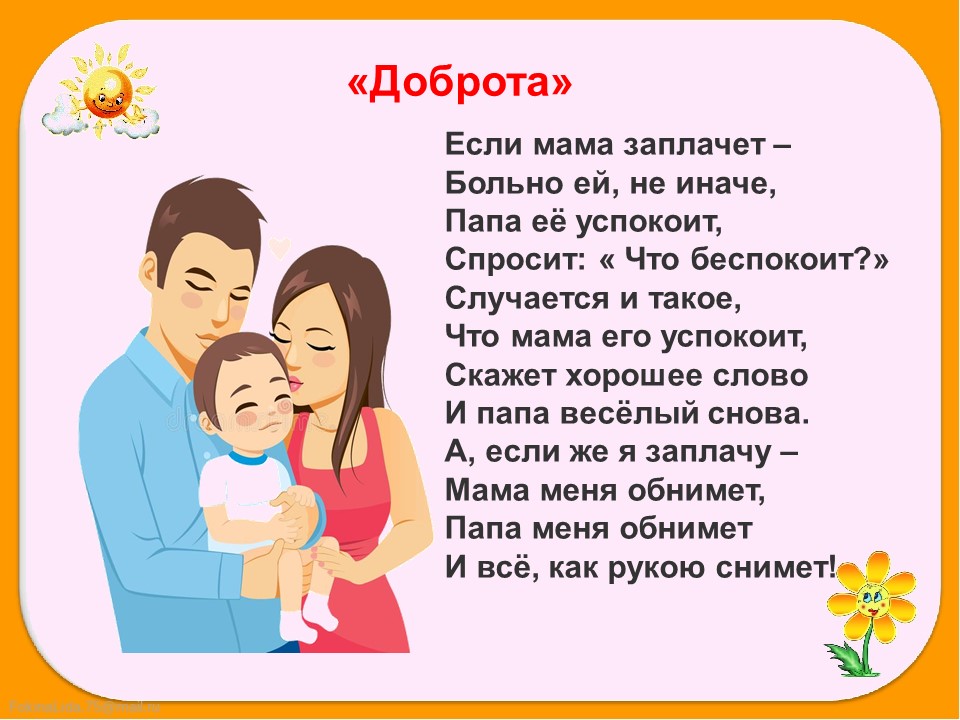
Дорогие наши мамы, вы навечно останетесь у нас в сердцах!
В 99% случаев мама оказывается права.
А ведь только мама верит, что ты будешь счастлива с ним, не смотря на то, что подруги говорят «Это не судьба»!
Всегда корю себя за то, что повышаю голос на маму. Я ведь её так люблю.
Парни приходят и уходят, подруги любят и предают, но единственный человек, которому ты можешь об этом рассказать — это мама.
Я хочу окунуться в детство, где нет зависти и грусти, где всегда светло, я хочу в детство, к маме.
Вы не перестанете быть ребенком, пока у вас есть мама.
Ты теплее солнечного света и гораздо ценнее любого драгоценного камня, моя дорогая доченька.
300.Зачем, по-твоему, взрослая дочь едет к матери, которую давно не видела? Не знаешь? За помощью, даже если сама этого не понимает.
В жизни каждой девушки наступает момент, когда она понимает, что её мать запуталась даже сильнее, чем она.
Мама всегда хотела, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось — толк вышел, а бестолочь осталась.
Так и получилось — толк вышел, а бестолочь осталась.
Ни один мужчина, даже самый лучший, не в состоянии понять, что такое материнские переживания.
Мать — это такое высокое звание, до которого никогда не долететь кукушке.
Вы действительно не понимаете человеческую природу, если не знаете, почему ребёнок на карусели машет своей маме на каждом круге, и почему его мама всегда машет ему вслед.
Материнское сердце — бесконечное всепрощение.
Женщина, которая не угадала сердцем, в чем лежат счастье и честь ее сына, у той нет сердца.
Мамы всегда приходят на помощь. Даже когда их нет рядом.
Труд есть отец богатства, земля — его мать.
Лучше промолчать, чем обидеть маму.
Мы не наследуем землю; мы одалживаем ее у наших детей.
Материнство – самый эмоциональный опыт жизни женщины. Каждая присоединяется к своего рода женской мафии.
Когда-нибудь и мне скажут: — Маааам, ну еще 5 минуточек.
Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои, пусть проносятся годы упрямо… только ты, моя мама, ЖИВИ. .
.
А вы тоже в детстве терялись, когда видели мамины слезы…?
Уже не 5 лет, а все бегу заглядываю в сумку, когда мама приходит, вдруг там что то вкусненькое.
Мама встречает дочь с дискотеки! — Пришла? — Пришла! — А че так поздно? — А ты небось уже все больницы обзвонила? — Обзвонила! — Все морги обзвонила? — Обзвонила! — А мне че не позвонила?????
3 слова от которых сердце начинает биться чаще. ТЕБЯ МАМА ИСКАЛА!
Мам, ну чё ты, это же новый орбит с запахом перегара!
Я родилась в октябре… значит вот какой подарок мама сделала папе на 23 февраля.
Задолбали эти «кто любит маму — жмите сердечко». Любишь маму — иди помоги ей посуду помыть!
Иногда я ругаюсь с мамой… Потом сожалею, плачу в сторонке, но не покажу этого ей, ведь я уже типа взрослая! А так хочется попросить прощения за всё…
Только теперь я понимаю, что на самом деле важно. С рождением дочки я обрела уверенность в себе, о которой раньше и не подозревала. Теперь, стоя на сцене или в кадре, я вообще не нервничаю. Ведь если с моей дочкой все хорошо, то остальное неважно.
Ведь если с моей дочкой все хорошо, то остальное неважно.
Наверное многим хоть раз мама говорила фразу: «Сними, не позорься».
— Пап, а что мама тебе говорила перед моим зачатием? — Не в меня!!!
Парень представляет маме свою девушку. Мама:- Очень приятно познакомиться. Так вот оказывается чьи волосы и губная помада на трусах моего сына!
Я помню, как меня в первом классе мама в школу привела, и как с выпускного – папа унес…
Мааам , я люблю тебя не смотря на все ссоры, крики, обиды ты для меня самая. И без тебя я никто.
День Рождения…Заранее убрала из аси и контакта дату рождения… В итоге только мама и подруга одна поздравила (у нее тоже в этот день др)…А он даже и не вспомнил…
Дочь – это комплимент женщине от Бога – значит, она достойна повторения.
Мам купи котенка? -Нет. -Ну мааам! -Нет! -Ну мамочка ну купи! -Слушай, отстань я сказала НЕТ! Иди, продай его кому нибудь другому!
Среди привычного обмана, cреди словесного тумана, я вдруг почувствовала, как много для человека значит мама.
Мамочка, как многое хочу сказать тебе, но не могу… Хочу попросить прощения за то, что причинила тебе боль, за то, что не звонила, что забыла… Прости мам, ты единственный человек, которого я люблю.
Подарив женщине сына, Бог дает ей возможность попробовать самой воспитать Настоящего Мужчину, способного не только говорить комплименты, но и совершать поступки.
Для каждого родителя, свой ребенок самый лучший!
Может быть я слабая и беззащитная, но пусть кто-нибудь только попробует обидеть моего ребенка…
Ещё не поздно сказать мамочке спасибо, за то, что родила на свет.
Слыша, как люди хвалят ее сына, мать радуется больше, чем в тот день, когда его родила.
Если Господь хочет защитить женщину, то он дарит ей сына.
Сын – это единственный мужчина, которого невозможно разлюбить никогда.
Ребёнок — это единственный человек, которому всё равно: толстая ты или худая, красивая или нет. Он любит тебя просто за то, что ты его МАМА…
Загадала сыну загадку – то худеет, то толстеет, голосит на всю хату (гармошка), на что он ответил: «Это ты, мамочка».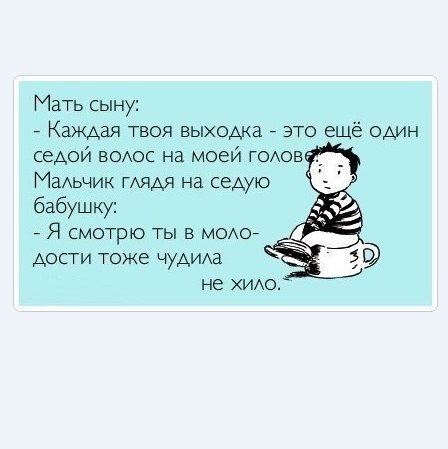
Когда порою жизнь устроит взбучку, и обручем стальным мне сдавит грудь, шепчу, как в детстве: «Мамочка! Дай… ручку!» И легче вдруг становится мой путь…
Нет лучше вечера, когда ты сидишь рядом с мамой и разговариваешь обо всём. Неважно о чём, главное, она рядом.
Когда-то наши слёзы могли остановить конфеты и игрушки. Сейчас сложнее… Хочу опять быть пятилетней девочкой, которой мама перед каждым своим уходом на работу давала по одной конфетке… Мама, я тебя очень люблю..
Мам, когда ты сердишься на меня… Я тоже сержусь, но не от всей души. Потому что люблю тебя, если бы не ты, я бы не родилась…
Имеешь дом – не бойся стужи; имеешь сына – не бойся нужды.
Бабушка, ты сама пришла? — Сама, внучек, сама. — А мама сказала, что тебя черти принесли.
Папа маме:-Дорогая,я должен тебе открыть тайну.Я больше не могу этого скрывать.- Говори!- напряглась мама. -Я хочу чтобы простила меня.Я не могу больше лгать.-Ну же,не тяни! -Наша дочь-не от тебя!- Как??? Через минуту: -Идиот.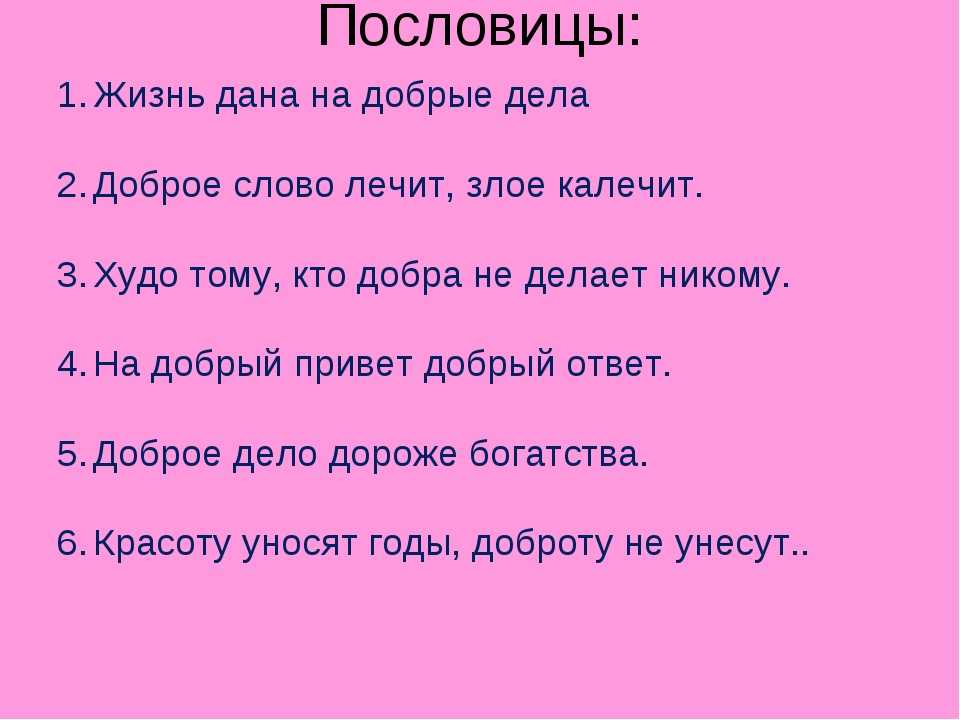
— Девушка, а вашей маме зять не нужен? — Нет, мы еще того не доели.
— Мама, мама, а почему папа под кроватью сидит? — Папа в доме хозяин, где хочет, там и сидит!
Не каждый человек достоин, произносить это священное слово: «Мама».
Без мамы очень тяжело, И меркнет всё вокруг. Родней на свете нет её. Она — твой близкий друг.
Самая страшная боль в сердце это когда ты видишь как твоя мама плачет и ты ничего не можешь поделать.
Что вы будете делать без своей работы, я знаю. Но что вы будете делать без матери?
Я всё никак не могу забыть глаза мамы: голубые как небо, нежные как пламя… Я огонёк в душе пронесу через года, я хочу чтоб ты знала, мама, я люблю тебя!
Разве в мире существует более совершенное слово, которое звучит похоже на всех языках, чем слово Мама?
Наша жизнь бесценна! Скажите своим мамам: «Спасибо»!
Наверно, только по прошествии многих-многих лет мы поймем своих матерей, да только сказать об этом будет уже некому…
Мать — это самое трогательное из всего, что есть на земле. Мать — это значит: прощать и приносить себя в жертву.
Мать — это значит: прощать и приносить себя в жертву.
Мать — это не тот человек, которого следует опасаться, но тот человек, который делает чувство опасения ненужным!
Сердце матери — бездна, в глубине которой всегда найдётся прощение.
Целые века стараний алхимиков не смогли сотворить жизнь! Но женщина способна это сделать всего за 280 дней!
По тому, как человек обращается с матерью, можно судить, как он будет обходиться с женой.
Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери…
С годами каждый понимает, что самое главное в жизни — возможность видеть маму. С годами это понимает каждый. Очень часто люди понимают это поздно, слишком поздно. Когда мамы уже нет на свете.
Если какая-нибудь мать хочет, чтобы сын ее презирал, то пусть она держит его дома, балует и не жалеет себя, лишь бы исполнять его капризы.
Если и есть в чем упрекнуть матерей, так это в том, что они чрезмерно оберегают своих детей. Чересчур сильно и чересчур долго.
Мать — это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей.
Отцы. Матери. С их любовью, вниманием и заботой. Хрен дождешься от них понимания и сочувствия.
Всем нам будет гораздо лучше, если мы забудем высокопарные идеи нашей пижонской цивилизации и обратим больше внимания на то, что задолго до нас знали дикари — уважение к матери.
Если мужчина готов на все ради женщины, значит эта женщина – его жена. Если женщина готова на все ради мужчины, значит этот мужчина – ее сын.
Сына, ставшего вором или убийцей, мать любит больше, чем сына, ставшего пастором.
Никто так не украшает женщину, как идущий рядом сын.
-Мама, а у прабабушки в животике бабушка была? -Да. -А у бабушки ты? -Да. -А у тебя я? -Да. -Мам, ну мы прямо, как матрёшки.
— Зачем ты удалила меня из друзей в контакте? — Ты мне не пишешь, не рисуешь граффити на стенку, не заваливаешь песенками… — ну, маааам!
Мама спит: она устала…. Маму я уже достала! Я не буду унывать: буду папу доставать!!!
Порой так хочется послать все к черту, крепко обнять маму и расплакаться на ее плече…
А вот, если бы не было мамы, мы бы не знали в какие дебри лезть нельзя, хотя там очень интересно!
Твоя девочка выросла, мама, выросла.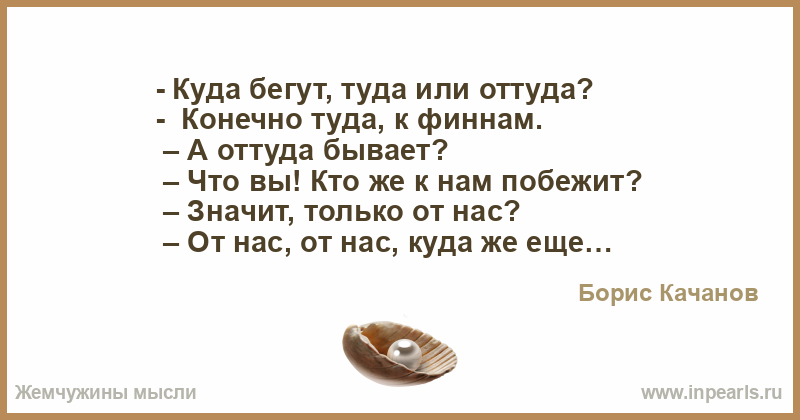 И уже не стесняется доверительно шептаться с тобой по вечерам о смешных и сложных жизненных мелочах.
И уже не стесняется доверительно шептаться с тобой по вечерам о смешных и сложных жизненных мелочах.
Маме все равно кто ты, она всегда будет гладить твои волосы, и целовать жаркие щеки, исцеляя тебя от страхов.
Слезы матери — капли, которые обжигают и делают больнее даже собственной крови.
Почему я люблю свою маму? «Потому, что я так сказала!», вот почему!
Сначала мама для вас весь мир, потом – вы весь мир для неё.
Природа очень мудра — дает женщине целых девять месяцев, чтобы приготовиться к чуду рождения ребенка, но только в тот момент, когда видишь личико своего младенца, полностью перерождаешься — становишься совершенно другим человеком, другой женщиной. Матерью.
Та, кто не уважает своей матери, потеряет и всякое уважение к себе.
Матери таковы: всю кровь по капле отдадут ради детей. Даже ради самых бездельных, от которых не дождёшься толку ни нынче, ни потом.
Мать двадцать лет делает из сына человека, а его девушка способна за двадцать минут сделать из него идиота.
Мать, она не может много чему научить сына. Потому что она сама не была мальчиком.
Что такое мать? Мать- боль рождения. Мать — беспокойство и хлопоты до конца дней ее. Мать-неблагодарность: она с первых шагов поучает и наставляет, одергивает и предупреждает, а это никому не нравиться ни в пять, ни в десять, ни в двадцать лет.
Как заметно чужие растут сыновья – как свои ненароком взрослеют…
Однажды наступает такой момент, когда, идя рядом с сыном, хочешь по привычке взять его за руку и вдруг понимаешь, что придется взять под руку.
Воспитай сына таким, каким бы ты хотела видеть мужа своей дочери.
Когда мать спрашивает: «Хочешь совет?» — это просто формальность. Хочешь ты того или нет — совет ты получишь в любом случае.
В первые годы мать — самый важный человек в жизни ее ребенка, и, если она хорошая мать, ей, возможно, удастся стать самым тупым, по его мнению, человеком.
Матери, должно быть, могут только любить, — в этом все их понимание своих детей.
Поразительный факт, что у большинства гениальных людей были замечательные матери, что они гораздо больше приобрели от своих матерей, чем от отцов.
Та, что воспитывает живую душу, — талантливее любого живописца или ваятеля.
Мама — это самое красивое слово, произнесенное человеком.
Ясновидение матери не дается никому. Между матерью и ребенком протянуты какие-то тайные невидимые нити, благодаря которым каждое потрясение в его душе болью отдается в ее сердце и каждая удача ощущается как радостное событие собственной жизни.
Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока матери, — вот что насыщает нас любовью к жизни.
Маленькая девочка на вопрос, где ее дом, ответила: «Там, где мама».
Как мать может не переживать за своих детей? За каждую их царапину, за каждый синяк, за каждое падение? У них – ссадины на коленках, у матери – раны в сердце.
В мире множество удивительных вещей: миллионы роз, мириады звезд, череда закатов и рассветов, друзья, родственники…и только мама всего одна.
Почему-то по ночам функция «слышать мамины шаги» и функции «быстро вырубать компьютер» и «кидаться на кровать» очень хорошо совмещаются.
Все мамы плачут, когда их дочек забирают замуж. И только моя говорит: Пусть плачут те, кто забирает.
Самая трудная работа — быть Мамой. Благодарю, Мама!
Моя дорогая мамочка, я знаю, как у тебя болит душа, когда я плачу, поэтому ты никогда не увидишь моих слез.
Решиться обзавестись ребенком дело нешуточное. Это значит решиться на то, чтобы твое сердце отныне и навсегда разгуливало вне твоего тела.
Моя мама была самой красивой женщиной, которую я знал. Тем, кем я стал, я обязан своей матери. Все мои успехи в этой жизни, моральное интеллектуальное и физическое воспитание я ставлю заслуги маме.
Спасибо, мама, что научила меня мечтать.
Только два раза – при рождении и смерти ребенка – мать слышит свой собственный крик как бы со стороны.
Ребенок – это навсегда. Никогда уже не будет ни свободы, ни независимости, ни спокойного сердца.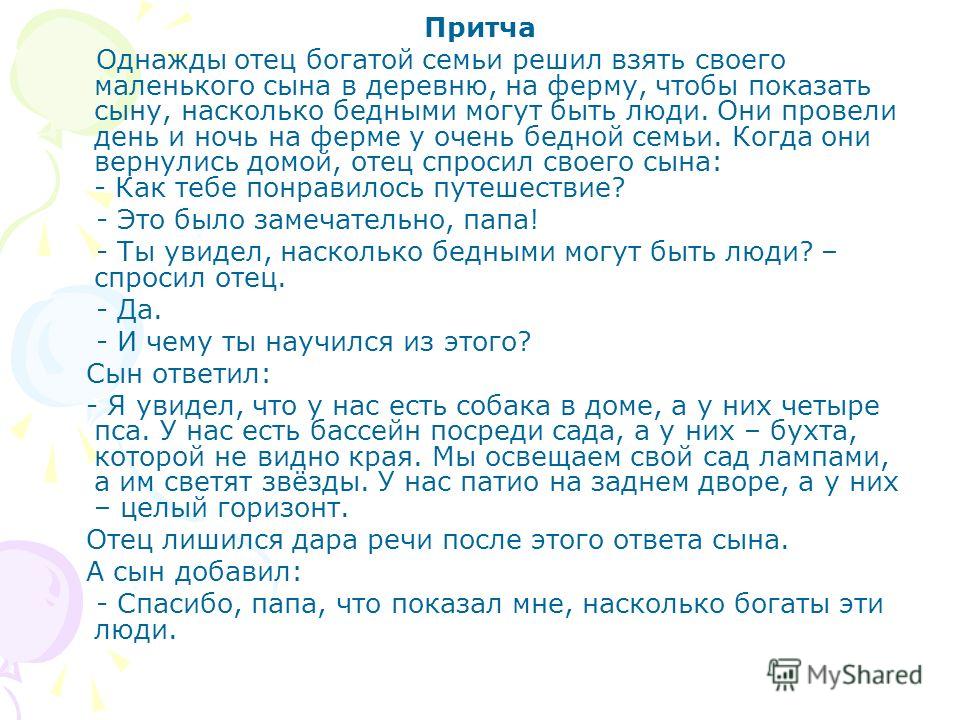 Оно всегда будет переживать, бояться, замирать. Оно всегда будет связано с другим сердцем, и к этому надо наконец начать привыкать. Нет, легче не станет. Никогда. Надо как-то учиться переносить эту тревогу.
Оно всегда будет переживать, бояться, замирать. Оно всегда будет связано с другим сердцем, и к этому надо наконец начать привыкать. Нет, легче не станет. Никогда. Надо как-то учиться переносить эту тревогу.
Кто сказал, что ангелов не существует? Просто на земле их называют мамами.
Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать.
Ребенок узнает маму по улыбке.
Воспоминания о материнской любви – самое утешительное воспоминание для того, кто чувствует себя потерянным и брошенным.
Млечный Путь нашей жизни берет начало с груди матери.
На Кавказе говорят, что настоящий мужчина может плакать в жизни дважды: первый раз при рождении (ведь рождаясь, плачут все), а второй раз – когда умирает мать.
Песня, которую поет мать у колыбели, сопровождает человека всю его жизнь до гроба.
Не следует затевать ссоры с женщиной, в которой пробудились материнские чувства. На ее стороне вся мораль мира.
Что такое мать? Мать – боль рождения. Мать – беспокойство и хлопоты до конца дней ее. Мать – неблагодарность: она с первых шагов поучает и наставляет, одергивает и предупреждает, а это никому не нравится ни в пять, ни в десять, ни в двадцать лет.
Мать – неблагодарность: она с первых шагов поучает и наставляет, одергивает и предупреждает, а это никому не нравится ни в пять, ни в десять, ни в двадцать лет.
Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
— 3 года: моя мама самая лучшая!
— 7 лет: мама, я тебя обожаю!
— 10 лет: мама, я тебя люблю!
— 15 лет: мама, не ори!
— 18 лет: я хочу уйти из этого дома!
— 35 лет: я хочу вернуться к маме!
— 50 лет: я не хочу потерять тебя, мама!
— 70 лет: сколько бы я отдала, чтобы снова увидеть тебя, МАМА!
Матери держат детские руки недолго, а их сердца – навсегда.
В мире есть только один прекрасный ребенок, и он есть у каждой матери.
Когда у тебя рождается ребенок, ты должна привыкнуть к тому, что с этого дня твое сердце бьется в другой груди.
Когда мы были детьми, мама была в нашей жизни главным человеком. К ней мы несли все наши беды и радости, с ней советовались, делились самым сокровенным. С возрастом в нашей жизни появляются другие люди: любимый человек, своя семья, дети… И мама тихонько уступает место им. Да, это жизнь…
С возрастом в нашей жизни появляются другие люди: любимый человек, своя семья, дети… И мама тихонько уступает место им. Да, это жизнь…
Но, вырастая, не забывайте своих мам. Сейчас они нуждаются в нас так же, как мы когда-то нуждались в них. Им необходимо знать, что они – по-прежнему важная часть нашей жизни. Давайте почаще говорить нашим мамам, как мы их любим и как много они для нас значат!
Порой мы становимся теми, от кого мама говорила держаться подальше.
Раздвигать силой мысли волны — это не чудо, это фокус, а вот мать-одиночка, работающая на трех работах, чтобы прокормить четверых детей — вот это чудо. Вы, люди, часто забываете, что сила скрыта в вас самих.
Вот бесит, когда мама заходит в твою комнату и начинает причитать, что типа такой бардак, зайти невозможно. Так ты и не заходи тогда.
Неважно сколько мне лет, пока жива моя мамочка я — ребёнок.
Дочка, а для кого это ты так красишься? – С подругами в кино идём. – Аааа. Пусть твои подруги прекратят тебе звонить на домашний и страстно сопеть в трубку. – Мааааам.
– Мааааам.
Искренне, по настоящему меня любят два человека которые называют меня “дочка”.
Ситуация в Макдональдсе. Дочка балуется. Мать: а ну быстро перестань, иначе мы уйдём, а тебя здесь оставим! И останешься тут совсем одна! Дочь: С удовольствием!
Самое честное лицо, какое я только видела в жизни, бывает у моей маленькой дочки, после того, как она что-нибудь напакостит!
Мама очень хотела девочку. Добрую, заботливую, любящую, порядочную и внимательную. А родилась я.
Я свяжу тебе жизнь, доченька. И потом от души подарю. Где я нитки беру? Никому никогда не признаюсь. Чтоб связать тебе жизнь — я тайком распускаю свою.
Самая лучшая жена будет только у моего мужа и красивее меня будет только моя дочь!
Доченька, не ходи каждый вечер на дискотеку, оглохнешь! — Спасибо, мама, я уже обедала.
Хочу, чтобы моя дочь была в силе, ставить точки там, где я ставила запятые.
Нашла свой дневник, который вела в 15 лет… в конце приписка рукой сестры — а мама читает твой дневник! и следом подпись мамы — ничего подобного!
Парень — это не муж, можно изменить! Муж — не мама, можно поменять.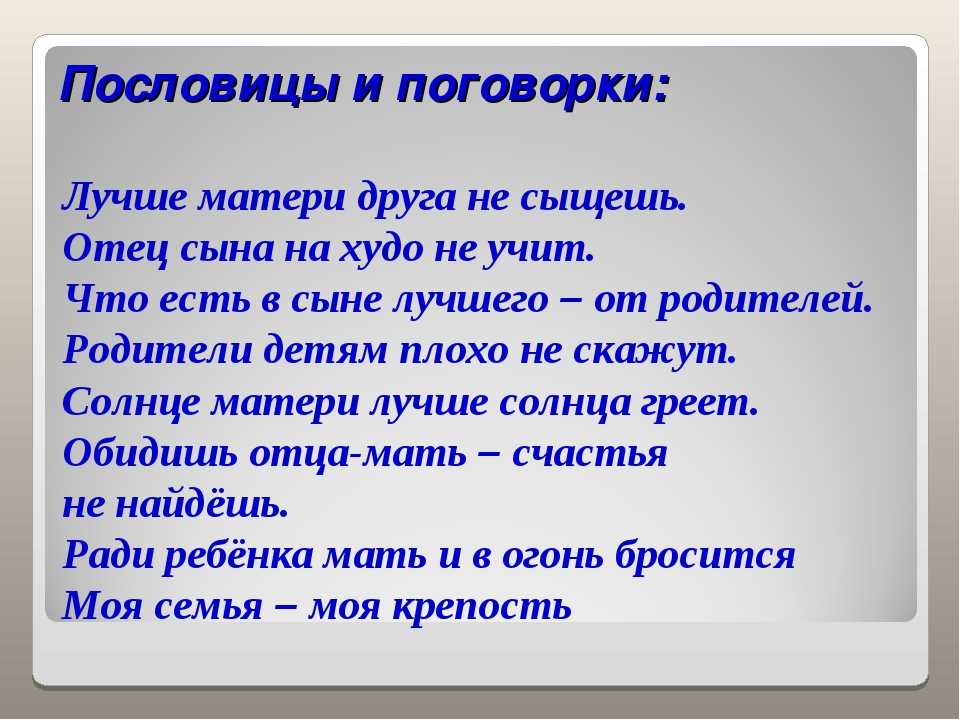
Мама орет что у меня в сумке куча всякого барахла. Ну мама, ты еще не видела ту девушку которая в сумке 2х литровый ваниш носит.
Девушки крутыми не бывают, девушка должна быть нежной, и похожей на маму, чтоб дарить тепло от сердца, уметь одним только взглядом успокоить сердце мужчины, вот в этом вся сила девушки.
Сейчас мать сказала: — Да ты скоро с ноутбуком и в туалет ходить будешь!!! Видимо она ещё не в курсе….
Пасмурно, слушаю сопливые песни, влюблена… А так хочется солнышко, слушать маму, и не знать что такое боль…
Мама – это целый мир, в котором всегда уютно.
Моя мама и я как сестры. Мы никогда не были классической семьей. Иногда мне кажется, что мы взрослели вместе.
Всю жизнь мама упорно внушала мне, что каждый человек должен быть полезным.
Лучшее место для слез — объятья мамы.
У моей мамы было хрупкое маленькое тело, но большое сердце — такое большое, что и чужое горе, и чужие радости находили в нем отклик и приют.
Мать всегда должна думать дважды — прежде всего за ребенка, лишь потом за себя.
Нет в мире такого цветка ни в каком поле, ни в море такой жемчужины, как ребенок на коленях у матери.
Моя мама — единственный человек, которому я могу подарить украшения с бриллиантами.
Быть по-матерински заботливым — значит быть способным на безусловную любовь. Это значит любить человека просто ради радости любви, помогать человеку расти просто ради радости видеть, как кто-то растет.
Мама любимая, мама родная, ты лучше всех в мире, я это точно знаю.
Девочки не забывайте, что у каждого принца, есть мама королева!
К другу приехала бабушка. Мама накрыла на стол. Сели ужинать. Бабушка начала есть оливки с маслинами. Жевала, морщилась. Потом выдала: — Вы когда виноград покупаете, пробуйте его на вкус, а то какой то протухший весь!
Если ты красивая, умная, интересная и у тебя до сих пор нет парня, может, хватит верить своей маме, что ты красивая, умная и интересная?
Дома бордак, голодные дети — мама весь день сидит в интернете!
Никогда не злись на маму, не говори слова, что могут расстроить, или разбить её любящее сердце. У тебя она только одна, сделай её счастливой, как она хотела этого для тебя.
У тебя она только одна, сделай её счастливой, как она хотела этого для тебя.
Сижу, флэшки форматирую, а рядом мама цветы поливает. И чего-то колпачок найти не могу, тогда вслух говорю: — если бы я был колпачком от флэшки, то где бы я был? На что мама мне ответила: — в психушке.
Остывший кофе…виски..два стакана..Осколки сердца в вазочке со льдом…Всё будет хорошо — сказала мама, а я привыкла верить ей во всём.
Нет, как мама готовила, стирала, убирала никто не видел, а как мама села за компьютер — так все увидели!
Мне всегда было жаль людей, которые находятся в плохих отношениях с матерью, ведь они потеряли самого лучшего друга!
«Чего мне не хватает?» — спросила я, вертясь перед зеркалом. «Улыбки», — ответила мне мама.
Моя мама воспитала во мне чувство безграничной любви. Возможно, я была невыносимой в молодости, но я всегда была любящей.
Я ничего не хочу сказать о том, что мы беспрекословно должны слушаться родителей во всём. Но, блин, может, мама действительно знает, как лучше?! Убеждалась не раз.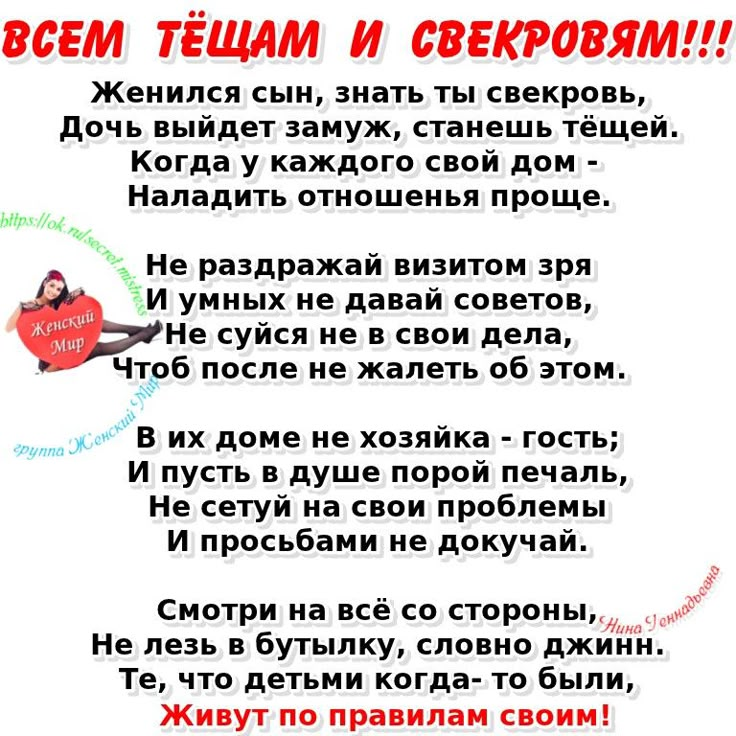
Примерно к 18 годам я поняла, что маму стоит всегда слушаться, но многое было уже не исправить.
Всегда поймешь, всегда простишь, когда мне грустно — и ты грустишь. Ты слова поддержки говоришь. «У тебя все получится», — твердишь.
Наверное со многими было что -нибудь подобное: «Мам, Мам, смотри, ниххх.. чего себе..»
У меня сегодня мама поинтересовалась: «Лёша, ты какие-нибудь другие способы подготовки к экзаменам помимо молитвы знаешь?»
Я люблю эту жизнь! Но больше я люблю ту, которая мне эту жизнь подарила…
Cтатусы про маму и дочку — Спасибо мама за твои теплые слова. За то, что ты посвятила мне себя. Ты для меня одна. Ты — моя семья.
Мама никогда не изменит, потому что ее любовь к тебе – святая.
Иногда я иду, промерзшая до костей, и вспоминаю, как мама говорила: «Маму надо слушать и одеваться тепло!»
Ты всегда будешь для мамы ребенком, даже когда у тебя будет своя семья и свой ребенок…
Сейчас ты считаешь, что мама тебя совсем не понимает, и не хочешь с ней общаться, когда она просит. А когда-то ты долгими вечерами сидела у окна и ждала только одного — когда мама придет с работы…
А когда-то ты долгими вечерами сидела у окна и ждала только одного — когда мама придет с работы…
А сегодня мама мне сказала: «Как жаль, что я вырастила монстра, а не дочку»…
А я обещала быть счастливой — я дала слово своей маме…
Обретая счастье, мы реже звоним друзьям, становясь несчастными, мы звоним чаще… маме.
Мама – это путевой клубок в твоей жизни, береги ее.
Рай находится у ног наших матерей…
Ни одно лекарство не лечит так душевную боль, как руки матери.
Мам, все эти статусы в твою честь, выглядят как лесть… А я просто говорю, что тебя одну люблю!
Любите и берегите своих мам, ведь благодаря им, сейчас живем мы…
Даже если заняты делами, все на свете можно отложить. Пять минут, и позвоните Маме, если еще можно позвонить. Любит нас сильнее, чем мы сами, раньше, чем с рожденья, помнит нас. Позвоните, позвоните маме!!! Она ждёт… сегодня и сейчас…
Любой плохой день можно исправить одним хорошим человеком… Мамой.
Смысл жизни — улыбка мамы.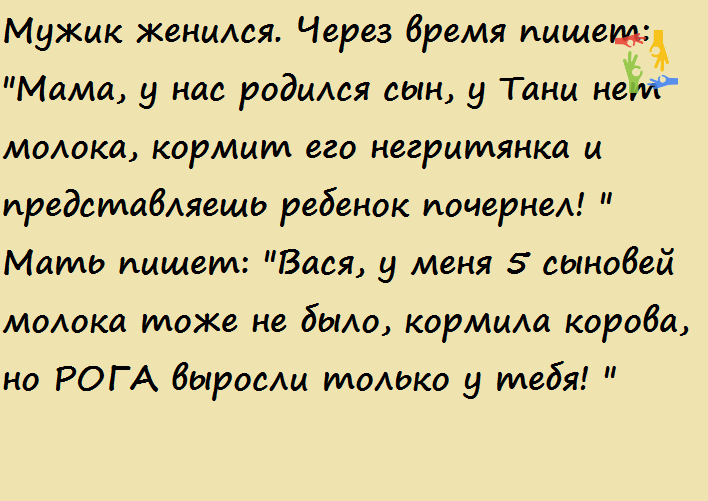
Мамина любовь – это сад, в котором всегда светит солнце и время года всегда весна.
В друзьях ошибаются часто. Но есть тот друг, который вас никогда не предаст. Это ваша мама… Цените и любите…
Все эти годы твержу непрестанно Самое нежное слово — мама! Ибо любовь рождена матерями, Ибо земля спасена матерями. Матери маленьких нас пеленали, Матери нас на коленях качали, Имя нам дали, словам научили. Слабых нас нежной любовью хранили.
Мама – первое слово ребёнка, Мама – первые в жизни шаги, Мама – самое в мире святое, Маму, Маму свою – береги.
Мамино сердце не знает покоя, Мамино сердце, как факел горит, Мамино сердце от горя укроет, Будет ему тяжело — промолчит!
Маму не нужно хвалить в соцсетях, ее нужно ценить в реальной жизни!
Мать, заметив на столе только четыре куска пирога для пяти человек, тут же объявляет, что она совершенно не голодна.
Мама — это единственный человек, который искренне рад, когда тебе хорошо, и который от всей души печалится в минуты твоей грусти.
В детстве мы плакали, когда мама от нас ненадолго уходила. А сейчас мы сами ее гоним…
Первая Республиканская Клиническая Больница УР
Первая Республиканская Клиническая Больница УР-
Перинатальному центру 12 лет
22 февраля 2010 года на базе БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» был открыт Перинатальный центр. Здесь концентрируются все беременные с тяжелой акушерской и соматической патологией. Организованы все необходимые методы исследования, в том числе консультации с Федеральными центрами.

Подробнее
-
100 лет БУЗ УР 1 РКБ
2022 год — это юбилейный год нашей клиники! За прошедшие годы в стране прошли большие изменения, но цели и задачи нашей деятельности остаются прежними – забота о здоровье пациентов.
Подробнее
Отзывы на работу 1 РКБ
Здесь Вы можете оставить свои отзывы и пожелания по работе сотрудников 1 РКБ.
Перейти в раздел
Спасибо, доктор!
Здесь Вы можете рассказать свою историю выздоровления и выразить благодарность медицинским работникам 1 РКБ.
Перейти в раздел
Вопросы и ответы
Здесь Вы можете задать свои вопросы и получить на них ответы от наших специалистов.
Перейти в раздел
Расположение корпусов и отделений 1 РКБ
Стационар
Приёмное отделение
Стационар
Операционный блок
Поликлиника
Центр профессиональной патологии
Отдел внебюджетной деятельности
Региональный сосудистый центр
Приёмное отделение
9 блок
Корпус АХЧ
Медико-генетическая консультация
Дневной стационар
Перинатальный центр. Роддом №7
1 эт. — Отделение ультразвуковой диагностики
2 эт. — Отделение патологии беременности
3 эт. — Отделение патологии новорожденных и недоношенных
4 эт. — Отделение патологии беременности
5 эт. — Центр ЭКО и репродукции
Послеродовое отделение
Столовая
Парковка для посетителей 1 РКБ
Только для легковых автомобилей
Вертолётная площадка
Автобусная остановка
из города
Автобусы
19, 22, 49, 321, 373, 439
Автобусная остановка
в город
Автобусы
19, 22, 49, 321, 373
Расположение корпусов и отделений 1 РКБ
Стационар
Приёмное отделение
Стационар
Операционный блок
Региональный сосудистый центр
Приёмное отделение
Поликлиника
Центр профессиональной патологии
Отдел внебюджетной деятельности
9 блок
Корпус АХЧ
Медико-генетическая консультация
Дневной стационар
Перинатальный центр. Роддом №7
Роддом №7
1 эт. — Отделение ультразвуковой диагностики
2 эт. — Отделение патологии беременности
3 эт. — Отделение патологии новорожденных и недоношенных
4 эт. — Отделение патологии беременности
5 эт. — Центр ЭКО и репродукции
Послеродовое отделение
Столовая
Парковка для посетителей 1 РКБ
Только для легковых автомобилей
Вертолётная площадка
Автобусная остановка
из города
Автобусы
19, 22, 49, 321, 373, 439
Автобусная остановка
в город
Автобусы
19, 22, 49, 321, 373
Расположение корпусов и отделений 1 РКБ
|
1-1 |
Стационар. Приёмное отделение |
|
1-2 |
Стационар. Операционный блок |
|
1-3 |
Региональный сосудистый центр. |
|
2 |
Поликлиника Центр профессиональной патологии Отдел внебюджетной деятельности |
|
3 |
9 блок |
|
4 |
Блок АХЧ |
|
5 |
Медико-генетическая экспертиза. Дневной стационар |
|
6-1 |
Перинатальный центр 1 эт. — Отделение ультразвуковой диагностики 2 эт. — Отделение патологии беременности 3 эт. — Отделение патологии новорождённых и недоношенных 4 эт. — Отделение патологии беременности 5 эт. |
|
6-2 |
Послеродовое отделение |
|
7 |
Столовая |
|
A |
Автобусные остановки Маршруты: 19, 22, 49, 321, 373 |
|
H |
Вертолётная площадка |
|
P |
Парковка для посетителей 1 РКБ (только легковые автомобили) |
Новости
Все новости
06.09.2022
Как пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции при выписке из клинических отделении БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»
- Обратиться к лечащему врачу с вопросом о вакцинации против COVID-19.

- Лечащий врач определит показания и противопоказания к вакцинации и даст рекомендации с учетом Вашего состояния.
- При получении рекомендаций лечащий врач запишет Вас на вакцинацию и сообщит дату, время и место проведения вакцинации в прививочном кабинете стационара БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»
Подробнее…
29.07.2022
Внедрение новых технологий
Удаление объемного образования головного мозга без трепанации черепа
Подробнее…
27.07.2022
Новый аппарат УЗИ экспертного класса
В Удмуртской Республике продолжается оснащение кабинетов антенатальной охраны плода. За счет средств бюджета республики в перинатальный центр приобретен новый аппарат УЗИ экспертного класса «РуСкан» с использованием технологий компании Samsung Medison. Аппарат снабжен 4 датчиками, возможностью записи исследований для последующего анализа или направления записи в Федеральные центры на консультацию.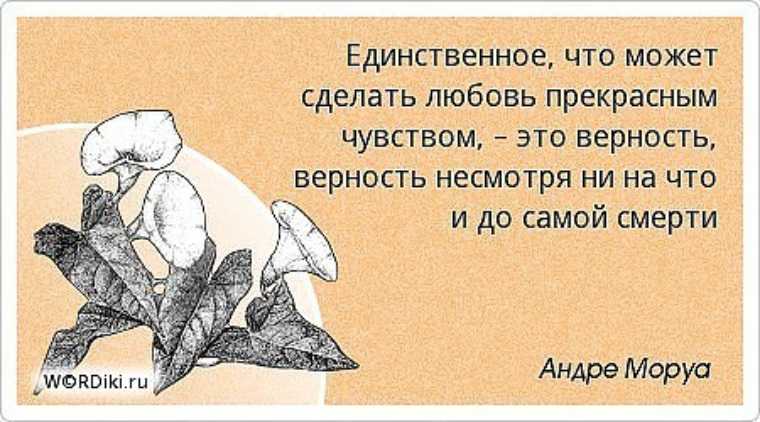
Подробнее…
15.07.2022
Оказание экстренной медицинской помощи беременной женщине (случай из практики)
1 РКБ – многопрофильная клиника, позволяющая оказывать медицинскую помощь самым тяжелым пациентам, решать сложные задачи по экстренной помощи, требующей командной работы врачей разных специальностей. Иногда медицинская помощь начинается уже в районе врачами санитарной авиации. Так случилось в этом году и с беременной женщиной, у которой произошло осложнение имеющегося хронического заболевания кишечника – неспецифического язвенного колита.
Подробнее…
27.06.2022
Новый подход к лечению тяжёлых компрессионно-ишемических поражений периферических нервов
Междисциплинарный подход к лечению пациентов в современной медицине является наиболее перспективным, оптимальным и качественным с точки зрения получения конечного результата лечения. Специалисты рассматривают одну и ту же проблему со всех ракурсов и точек зрения, что позволяет выбрать наиболее оптимальную тактику лечения и проводить сложнейшие операции в обоюдно заинтересованных анатомических зонах.
Специалисты рассматривают одну и ту же проблему со всех ракурсов и точек зрения, что позволяет выбрать наиболее оптимальную тактику лечения и проводить сложнейшие операции в обоюдно заинтересованных анатомических зонах.
Подробнее…
СУДЫ СОЛОМОНА
СУДЫ СОЛОМОНАСУДЫ СОЛОМОНА
(пер. Г. М. Прохорова)
<О ДВУХ БЛУДНИЦАХ>
(…) И в то время устроил Соломон большой пир своим людям. Тогда предстали пред
царем две женщины-блудницы, и сказала одна женщина: Я в беде, господин мой. Я и
эта подруга моя мы живем в одном доме, в котором обе и родились. У меня
родился сын. А на третий день после того, как я родила, и эта женщина родила
сына; живем же мы только вдвоем, и никого нет с нами в нашем доме. Этой ночью
сын этой женщины умер, потому что она заспала его. И вот, встав среди ночи, она
взяла с моей руки моего мальчика и положила его спать на свое ложе, а своего
умершего мальчика положила ко мне. Я встала утром покормить младенца и нашла его
мертвым. Тут я и разобралась, что это не мой сын, которого я родила. А другая
женщина сказала: Нет, мой сын живой, а это твой умер. И спорили они перед
царем.
И вот, встав среди ночи, она
взяла с моей руки моего мальчика и положила его спать на свое ложе, а своего
умершего мальчика положила ко мне. Я встала утром покормить младенца и нашла его
мертвым. Тут я и разобралась, что это не мой сын, которого я родила. А другая
женщина сказала: Нет, мой сын живой, а это твой умер. И спорили они перед
царем.
И сказал им царь: Значит, ты говоришь так: Это мой сын живой, а ее мертвый, а она говорит: Нет, мой живой, а твой умер. И сказал царь слугам: Разрубите этого живого мальчика пополам и отдайте половину его этой, а половину той. И мертвого тоже, разрубив, дайте половину его этой, а половину той.
И ответила женщина, сын которой был жив, ибо в смятение пришла душа ее из-за
сына ее, и сказала: Пусть я буду в беде, господин мой. Отдайте ей этого
мальчика, не умерщвляйте его. А другая женщина сказала: Пусть не будет ни мне,
ни ей! Разрубите его надвое. Царь в ответ сказал: Отдайте ребенка живым
женщине, сказавшей: Отдайте ей, а не умерщвляйте его. Отдайте его ей, ибо она
его мать.
Отдайте его ей, ибо она
его мать.
Услышал Израиль об этом суде, которым судил царь, и убоялись все лица царева, ибо поняли, что ему дан смысл божий творить суд и правду.
<0 ПОМОЩИ ФАРАОНА>
Соломон взял в жены дочь фараона, когда строил Святая Святых. И отправил он посла своего к нему со словами: Тесть мой! Пришли мне помощь. А тот выбрал шестьсот человек, узнав чрез астрологию, что им предстоит умереть в том году, хотел проверить мудрость Соломона. Когда же их привели к Соломону, тот увидел их издали и повелел сшить всем им саваны. Приставил он к ним посла своего и отправил к фараону, сказав: Тесть мой! Если тебе не в чем погребать своих мертвецов, так вот тебе одеяния. У себя же их погреби.
СКАЗАНИЕ О ТОМ, КАК БЫЛ ВЗЯТ КИТОВРАС СОЛОМОНОМ
Когда Соломон строил Святая Святых, то понадобилось ему задать вопрос Китоврасу. Донесли ему, где тот живет, сказали в пустыне дальней. Тогда мудрый Соломон
задумал сковать железную цепь и железный обруч, а на нем написал заклятие именем
божиим. И послал первого из своих бояр со слугами, и велел везти вино и мед, и
взяли с собой овечьи шкуры. Пришли к жилью Китовраса, к трем колодцам его, но не
было его там. И по указанию Соломона влили в те колодцы вино и мед, а сверху
накрыли колодец овечьими шкурами. В два колодца налили вино, а в третий мед.
Сами же, спрятавшись, смотрели из тайника, когда придет он пить воду к колодцам.
И скоро пришел он, приник к воде, начал пить и сказал: Всякий, пьющий вино,
мудрее не делается. Но расхотелось ему пить воду, и он сказал: Ты вино,
веселящее людям сердце, и выпил все три колодца. И захотел поспать немного, и
разобрало его вино, и он уснул крепко. Боярин же, подойдя, крепко сковал его по
шее, по рукам и по ногам. И, проснувшись, хотел он рвануться. А боярин ему
сказал: Господин, Соломон имя господне с заклятием написал на веригах, которые
теперь на тебе.
Донесли ему, где тот живет, сказали в пустыне дальней. Тогда мудрый Соломон
задумал сковать железную цепь и железный обруч, а на нем написал заклятие именем
божиим. И послал первого из своих бояр со слугами, и велел везти вино и мед, и
взяли с собой овечьи шкуры. Пришли к жилью Китовраса, к трем колодцам его, но не
было его там. И по указанию Соломона влили в те колодцы вино и мед, а сверху
накрыли колодец овечьими шкурами. В два колодца налили вино, а в третий мед.
Сами же, спрятавшись, смотрели из тайника, когда придет он пить воду к колодцам.
И скоро пришел он, приник к воде, начал пить и сказал: Всякий, пьющий вино,
мудрее не делается. Но расхотелось ему пить воду, и он сказал: Ты вино,
веселящее людям сердце, и выпил все три колодца. И захотел поспать немного, и
разобрало его вино, и он уснул крепко. Боярин же, подойдя, крепко сковал его по
шее, по рукам и по ногам. И, проснувшись, хотел он рвануться. А боярин ему
сказал: Господин, Соломон имя господне с заклятием написал на веригах, которые
теперь на тебе. Он же, увидев их на себе, кротко пошел в Иерусалим к царю.
Он же, увидев их на себе, кротко пошел в Иерусалим к царю.
Нрав же его был такой. Не ходил он путем кривым, но только прямым. И когда пришли в Иерусалим, расчищали перед ним путь и дома рушили, ибо не ходил он в обход. И подошли к дому вдовы, и, выбежав, вдова закричала, умоляя Китовраса: Господин, я вдова убогая. Не обижай меня! Он же изогнулся около угла, не соступясь с пути, и сломал себе ребро. И сказал: Мягкий язык кость ломает. Когда же вели его через торг, то, слыша, как один человек говорил: Нет ли башмаков на семь лет? Китоврас рассмеялся. И, увидев другого человека, ворожащего, засмеялся. А увидел свадьбу справляемую, заплакал. Увидев же на пути человека, блуждающего без дороги, он направил его на дорогу. И привели его во двор царев.
В первый день не повели его к Соломону. И сказал Китоврас: Почему меня не зовет
к себе царь? Сказали ему: Перепил он вчера Китоврас же взял камень и положил
на другой камень. Соломону рассказали, как поступил Китоврас. И сказал царь:
Велит мне пить питье на питье. И на другой день не позвал его к себе царь. И
Китоврас спросил: Почему не ведете меня к царю и почему я не вижу лица его? И
сказали: Недомогает царь, оттого что вчера много ел. Тогда снял Кнтоврас
камень с камня.
И сказал царь:
Велит мне пить питье на питье. И на другой день не позвал его к себе царь. И
Китоврас спросил: Почему не ведете меня к царю и почему я не вижу лица его? И
сказали: Недомогает царь, оттого что вчера много ел. Тогда снял Кнтоврас
камень с камня.
На третий же день сказали: Зовет тебя царь. Он же измерил прут в четыре локтя, вошел к царю, поклонился и молча бросил прут перед царем. Царь же по мудрости своей разъяснил боярам своим, что означает прут, и поведал: Бог дал тебе во владение вселенную, а ты не насытился, поймал и меня. И сказал ему Соломон: Не по прихоти своей привел я тебя, но чтобы спросить, как строить Святую Святых. Привел тебя по повелению господню, так как не позволено мне тесать камни железом.
И сказал Китоврас: Есть птица малая кокот по имени Шамир. Детей же кокот
оставляет в гнезде своем на горе каменной в пустыне дальней. Соломон же послал
боярина своего со слугами своими, по указанию Китовраса, ко гнезду. А Китоврас
дал боярину прозрачное стекло и наказал ему спрятаться у гнезда: Когда вылетит
кокот, закрой стеклом этим гнездо. Боярин пошел к гнезду; а в нем птенцы
маленькие, кокот же улетел за кормом, и он заложил стеклом устье гнезда.
Немного подождали, и кокот прилетел, захотел влезть в гнездо. Птенцы пищат
сквозь стекло, а он к ним не может попасть. Тогда он взял то, что хранил на
некоем месте, и принес к гнезду, и положил на стекле, хотя его рассадить. Тогда
люди крикнули, и он это выпустил. И, взяв, боярин принес это к Соломону.
Боярин пошел к гнезду; а в нем птенцы
маленькие, кокот же улетел за кормом, и он заложил стеклом устье гнезда.
Немного подождали, и кокот прилетел, захотел влезть в гнездо. Птенцы пищат
сквозь стекло, а он к ним не может попасть. Тогда он взял то, что хранил на
некоем месте, и принес к гнезду, и положил на стекле, хотя его рассадить. Тогда
люди крикнули, и он это выпустил. И, взяв, боярин принес это к Соломону.
Потом спросил Соломон Китовраса: Почему ты рассмеялся, когда человек спрашивал
башмаки на семь лет? Видел по нему, ответил Китоврас, что не проживет и
семи дней. Послал царь проверить, и оказалось так. И спросил Соломон: Почему
ты рассмеялся, когда человек ворожил? Отвечал Китоврас: Он рассказывал людям о
тайном, а сам не знал, что под ним клад с золотом. И сказал Соломон: Пойдите
и проверьте. Проверили, и оказалось так. И спросил царь: Почему плакал, увидев
свадьбу? Китоврас ответил: Опечалися потому, что жених тот не проживет и
тридцати дней. Проверил царь, и
оказалось так. И спросил царь: Зачем пьяного человека вывел на дорогу? Ответил
Китоврас: Слышал я с небес, что добродетелен тот человек и следует ему
послужить.
И спросил царь: Зачем пьяного человека вывел на дорогу? Ответил
Китоврас: Слышал я с небес, что добродетелен тот человек и следует ему
послужить.
Пробыл Китоврас у Соломона до завершения Святая Святых. Однажды сказал Соломон Китоврасу: Теперь я видел, что ваша сила как и человеческая, и не больше нашей силы, но такая же. И сказал ему Китоврас: Царь, если хочешь увидеть, какая у меня сила, сними с меня цепи и дай мне свой перстень с руки; тогда увидишь мою силу. Соломон же снял с него железную цепь и дал ему перстень. А тот проглотил перстень, простер крыло свое, размахнулся, и ударил Соломона, и забросил его на край земли обетованной. Узнали об этом мудрецы и книжники и разыскали Соломона.
Всегда охватывал Соломона страх к Китоврасу по ночам. И царь соорудил ложе и повелел шестидесяти сильным отрокам стоять кругом с мечами. Потому и говорится в Писаниях: Ложе Соломона, шестьдесят юношей храбрых из израильтян и из стран северных.
О КИТОВРАСЕ ИЗ ПАЛЕИ
Китоврасбыстрый зверь. Мудрый Соломон при помощи хитрости поймал его. Стан у
него человеческий, а ноги коровьи. Басня говорит, что он жену в ухе носил. Вот
при помощи какой хитрости поймали его. Жена его сказала юноше, любовнику своему,
так: Он обходит днем и ночью много земель и приходит к некоему месту, на
котором два колодца. И он, разгорячившись, выпивает оба те колодца. Соломон же
велел налить в один из них вина, а в другой меду. Китоврас же оба колодца,
прискакав, выпил. Тут его, пьяного, спящего, и поймали, и сковали крепко, ибо
сила в нем была большая. И привели его к царю Соломону. Царь спросил его: Что
красивее всего на этом свете? Тот ответил: Лучше всего своя воля. И,
рванувшись, все переломал и поскакал на свою волю.
Мудрый Соломон при помощи хитрости поймал его. Стан у
него человеческий, а ноги коровьи. Басня говорит, что он жену в ухе носил. Вот
при помощи какой хитрости поймали его. Жена его сказала юноше, любовнику своему,
так: Он обходит днем и ночью много земель и приходит к некоему месту, на
котором два колодца. И он, разгорячившись, выпивает оба те колодца. Соломон же
велел налить в один из них вина, а в другой меду. Китоврас же оба колодца,
прискакав, выпил. Тут его, пьяного, спящего, и поймали, и сковали крепко, ибо
сила в нем была большая. И привели его к царю Соломону. Царь спросил его: Что
красивее всего на этом свете? Тот ответил: Лучше всего своя воля. И,
рванувшись, все переломал и поскакал на свою волю.
<0 ДВУГЛАВОМ МУЖЕ И ЕГО ДЕТЯХ>
Китоврас же, уходя к своему народу, подарил Соломону человека с двумя головами.
Прижился тот человек у Соломона. спрашивал его Соломон: Ты из каких людей? Ты
человек или бес? Человек отвечал: Я из людей, живущих под землей. И спросил
его царь: Есть ли у вас солнце и луна? Тот сказал: От вашего запада солнце
восходит к нам, а на вашем востоке заходит. Так что когда у вас день, тогда у
нас ночь. А когда у вас ночь, тогда у нас день. И дал ему царь жену. И родились
у него два сына: один с двумя головами, а другой с одной. А у их отца было много
добра. И умер их отец. Двухголовый сказал брату: Поделим имущество по головам.
А меньший брат сказал: Нас двое. Поделим имение пополам. И пошли на суд к
царю. Одноголовый сказал царю: Нас два брата. Мы должны поделить имущество
пополам. А тот, двухголовый, сказал царю: У меня две головы, и я хочу взять
две доли. Царь же по мудрости своей повелел подать уксус и сказал: Разве эти
две головы от разных тел? Польюка я уксуса на одну голову: если не ощутит другая
голова, две доли возьмешь на две головы. А если ощутит другая голова льющийся
уксус, значит, обе эти головы от одного тела. Тогда одну долю возьмешь. И когда
полился уксус на одну голову, другая заверещала.
И спросил
его царь: Есть ли у вас солнце и луна? Тот сказал: От вашего запада солнце
восходит к нам, а на вашем востоке заходит. Так что когда у вас день, тогда у
нас ночь. А когда у вас ночь, тогда у нас день. И дал ему царь жену. И родились
у него два сына: один с двумя головами, а другой с одной. А у их отца было много
добра. И умер их отец. Двухголовый сказал брату: Поделим имущество по головам.
А меньший брат сказал: Нас двое. Поделим имение пополам. И пошли на суд к
царю. Одноголовый сказал царю: Нас два брата. Мы должны поделить имущество
пополам. А тот, двухголовый, сказал царю: У меня две головы, и я хочу взять
две доли. Царь же по мудрости своей повелел подать уксус и сказал: Разве эти
две головы от разных тел? Польюка я уксуса на одну голову: если не ощутит другая
голова, две доли возьмешь на две головы. А если ощутит другая голова льющийся
уксус, значит, обе эти головы от одного тела. Тогда одну долю возьмешь. И когда
полился уксус на одну голову, другая заверещала. И сказал царь: Раз у тебя одно
тело, одну долю возьмешь. Так рассудил их царь Соломон.
И сказал царь: Раз у тебя одно
тело, одну долю возьмешь. Так рассудил их царь Соломон.
<ЗАГАДКИ МАЛКАТОШКИ>
Была Южская царица иноплеменница по имени Малкатошка. Пришла она испытать Соломона загадками; была же она очень мудрой. И принесла ему дары: двадцать капий золота, очень много зелий и дерева негниющего. Соломон же, услышав о приходе царицы, сел в зале с полом из прозрачного стекла на помосте, желая испытать ее. А она, видя, что царь сидит в воде, подобрала свои одежды перед ним. И он увидел, что она прекрасна лицом, тело же ее волосато, как щетка. Волосами этими она привораживала мужчин, бывавших с нею. Соломон же сказал мудрецам своим: Приготовьте баню и мазь с зелием и помажьте ее тело, чтобы выпали волосы. А мудрецы и книжники сказали ему, чтобы он сошелся с нею. Зачав от него, она пошла в свою землю и родила сына, и это был Навуходоносор.
Вот какая была загадка ее к Соломону. Она собрала мальчиков и девочек, одетых в
одинаковые одежды, и сказала царю: Разбери по своей мудрости, которые мальчики,
а которые девочки. Царь по своей мудрости велел принести плоды, и высыпали их
перед ними. Мальчики стали подбирать в полы одежд, а девочки в рукава. И сказал
Соломон: Это мальчики, а этодевочки. Она из-за этого подивилась его
хитрости.
Царь по своей мудрости велел принести плоды, и высыпали их
перед ними. Мальчики стали подбирать в полы одежд, а девочки в рукава. И сказал
Соломон: Это мальчики, а этодевочки. Она из-за этого подивилась его
хитрости.
На другой день она собрала отроков обрезанных и необрезанных и сказала Соломону: Разбери, которые обрезанные, а которые необрезанные. Царь же повелел архиерею внести святой венец, на котором было написано слово господне, которым Валаам был отвращен от волхвования. Обрезанные отроки встали, а необрезанные пали перед венцом. Она же этому очень удивилась.
Загадали мудрецы ее хитрецам Соломона: Есть у нас колодец вдали от города. Мудростью своей угадайте, чем можно перетащить его в город? Хитрецы же Соломоновы, поняв, что этого не может быть, сказали им: Сплетите из отрубей веревку, а мы перетащим колодец ваш в город.
И снова загадали ее мудрецы: Если нива порастет ножами, чем пожать ее сможете? Им ответили: Ослиным рогом. И сказали мудрецы ее: Где у осла рога? Они же ответили: А где пива родит ножи?
Загадали и еще: Если загниет соль, чем сможете ее посолить? Они же сказали:
Утробу мула взяв, ею надо посолить. И сказали: Да где мул рожает? Они же
ответили: Где соль гниет.
И сказали: Да где мул рожает? Они же
ответили: Где соль гниет.
Царица же, увидев хоромы созданные, и еды множество, и как сидят люди его, и как стоят слуги его, и одеяния их, и питие, и жертвы, которые они приносили в дом божий, сказала: Истинна речь, которую я слышала в земле моей о мудрости твоей. И не имела я веры речам, пока не пришла и не увидела своими глазами. Оказывается, не было сказано мне и половины. Благо мужам твоим, слышащим мудрость твою.
Царь же Соломон дал этой царице имя Малкатошка и все, что она просила. И она пошла в землю свою со своими людьми.
<0 НАСЛЕДСТВЕ ТРЕХ БРАТЬЕВ>
В дни Соломона жил человек, имевший трех сыновей. Умирая, человек этот призвал
их к себе и сказал им: У меня есть клад в земле. В том месте, сказал,
три сосуда стоят друг на друге. После моей смерти старший пусть возьмет верхний,
средний средний, а меньший нижний. После смерти отца открыли сыновья его
этот клад в присутствии людей. И оказалось в верхнем сосуде полно золота, в
среднем полно костей, а в нижнем полно земли. Стали ссориться эти братья,
говоря: Ты сын, раз возьмешь золото, а мы не сыновья? И пошли на суд к
Соломону. И рассудил их Соломон: что есть золота то старшему, что скота и слуг
то среднему, судя по костям; а что виноградников, нив и хлеба то меньшему. И
сказал им: Отец ваш был умный человек и разделил вас при жизни.
И оказалось в верхнем сосуде полно золота, в
среднем полно костей, а в нижнем полно земли. Стали ссориться эти братья,
говоря: Ты сын, раз возьмешь золото, а мы не сыновья? И пошли на суд к
Соломону. И рассудил их Соломон: что есть золота то старшему, что скота и слуг
то среднему, судя по костям; а что виноградников, нив и хлеба то меньшему. И
сказал им: Отец ваш был умный человек и разделил вас при жизни.
<0 ТРЕХ ПУТНИКАХ>
Шли однажды три человека своим путем, неся в поясах своих золото. Остановившись
для отдыха в пустынном месте, они посовещались и решили: Спрячем золото в
тайнике: если нападут разбойники, мы убежим, а оно будет сохранено. Выкопав
яму, все они положили свои пояса в тайник. Среди ночи же, когда два друга
уснули, третий, питая злую мысль, встал и перепрятал пояса в другое место. И
когда они, отдохнув, пришли к тайнику, чтобы взять свои пояса, то, найдя их,
закричали они все разом; злодей же тот завопил гораздо громче обоих других. И
возвратились все домой. И сказали: Пойдем к Соломону и расскажем ему о нашей
беде. И пришли к Соломону, и сказали: Не знаем, царь, зверь ли взял, птица ли
или ангел. Объясни нам, царь. Он же по мудрости своей сказал им: Найду вас
завтра. Но раз вы путники, очень прошу вас: растолкуйте мне: Некий юноша,
обручившись с красивой девушкой, подарил ей обручальное кольцо без ведома ее
отца и матери. Этот юноша пошел в другую землю и там женился. А отец выдал
девушку замуж. И когда захотел жених войти к ней, девушка закричала и сказала:
От стыда я не сказала отцу, что обручена с другим. Побойся бога, пойди к
обручнику моему, спроси у него разрешения: пусть я буду тебе женой по слову
его. Собрался юноша и, взяв много добра и девушку, пошел туда, И тот разрешил
ему: Пусть она будет тебе женой, раз уж ты ее взял. Жених и говорит ей:
Возвратимся назад и устроим свадьбу снова. А когда они шли дорогой назад, им
повстречался некий насильник со своими людьми и захватил его и с девушкой, и с
добром.
И
возвратились все домой. И сказали: Пойдем к Соломону и расскажем ему о нашей
беде. И пришли к Соломону, и сказали: Не знаем, царь, зверь ли взял, птица ли
или ангел. Объясни нам, царь. Он же по мудрости своей сказал им: Найду вас
завтра. Но раз вы путники, очень прошу вас: растолкуйте мне: Некий юноша,
обручившись с красивой девушкой, подарил ей обручальное кольцо без ведома ее
отца и матери. Этот юноша пошел в другую землю и там женился. А отец выдал
девушку замуж. И когда захотел жених войти к ней, девушка закричала и сказала:
От стыда я не сказала отцу, что обручена с другим. Побойся бога, пойди к
обручнику моему, спроси у него разрешения: пусть я буду тебе женой по слову
его. Собрался юноша и, взяв много добра и девушку, пошел туда, И тот разрешил
ему: Пусть она будет тебе женой, раз уж ты ее взял. Жених и говорит ей:
Возвратимся назад и устроим свадьбу снова. А когда они шли дорогой назад, им
повстречался некий насильник со своими людьми и захватил его и с девушкой, и с
добром. И захотел этот разбойник насилье сотворить над девушкой, а она закричала
и рассказала разбойнику, что ходила за разрешением и не была еще со своим мужем
в постели. Удивился разбойник и сказал ее мужу: Возьми жену свою и иди со своим
добром. И сказал Соломон: Я рассказал вам про этих девушку и юношу. Скажите
теперь мне вы, люди, потерявшие свои пояса: кто лучше юноша ли, или девушка,
или разбойник? Один в ответ сказал: Девушка хороша, потому что рассказала о
своем обручении. Другой сказал: Юноша хорош, потому что подождал до
разрешения. Третий сказал: Разбойник лучше всех, потому что возвратил девушку
и самого отпустил. А добра не надо было отдавать. Тогда сказал в ответ Соломон:
Друг, ты охоч на чужое добро. Ты взял все пояса. Тот же сказал:
Царь-господин, воистину так и есть. Не утаюсь от тебя.
И захотел этот разбойник насилье сотворить над девушкой, а она закричала
и рассказала разбойнику, что ходила за разрешением и не была еще со своим мужем
в постели. Удивился разбойник и сказал ее мужу: Возьми жену свою и иди со своим
добром. И сказал Соломон: Я рассказал вам про этих девушку и юношу. Скажите
теперь мне вы, люди, потерявшие свои пояса: кто лучше юноша ли, или девушка,
или разбойник? Один в ответ сказал: Девушка хороша, потому что рассказала о
своем обручении. Другой сказал: Юноша хорош, потому что подождал до
разрешения. Третий сказал: Разбойник лучше всех, потому что возвратил девушку
и самого отпустил. А добра не надо было отдавать. Тогда сказал в ответ Соломон:
Друг, ты охоч на чужое добро. Ты взял все пояса. Тот же сказал:
Царь-господин, воистину так и есть. Не утаюсь от тебя.
<0 СМЫСЛЕ ЖЕНСКОМ>
А потом Соломон премудрый, желая испытать смысл женский, мир, призвал боярина
своего по имени Декир и сказал ему: Ты мне очень нравишься. И еще больше
полюблю тебя, если ты выполнишь мое желание: убей жену свою, и я отдам за тебя
дочь свою лучшую. То же самое сказал ему через несколько дней. И не хотел
сделать это Декир. И наконец сказал: Я выполню волю твою, царь. Царь дал ему
меч свой со словами: Отруби голову жене своей, когда она уснет, чтобы не
отговорила она тебя речами своими. Тот пошел, нашел жену свою спящей, а по
сторонам ее двое детей. И он посмотрев на жену свою и на своих детей спящих,
сказал в сердце своем: Если так ударю подругу мою мечом, то огорчу детей моих.
Царь же позвал его к себе и спросил его, говоря: Выполнил ли ты волю мою
относительно твоей жены? Тот ответил: Не смог я, господин мой царь,
выполнить.
И еще больше
полюблю тебя, если ты выполнишь мое желание: убей жену свою, и я отдам за тебя
дочь свою лучшую. То же самое сказал ему через несколько дней. И не хотел
сделать это Декир. И наконец сказал: Я выполню волю твою, царь. Царь дал ему
меч свой со словами: Отруби голову жене своей, когда она уснет, чтобы не
отговорила она тебя речами своими. Тот пошел, нашел жену свою спящей, а по
сторонам ее двое детей. И он посмотрев на жену свою и на своих детей спящих,
сказал в сердце своем: Если так ударю подругу мою мечом, то огорчу детей моих.
Царь же позвал его к себе и спросил его, говоря: Выполнил ли ты волю мою
относительно твоей жены? Тот ответил: Не смог я, господин мой царь,
выполнить.
Царь же отправил его послом в другой город и, призвав жену его, сказал ей: Ты
нравишься мне гораздо больше всех женщин. Если ты сделаешь, что я тебе повелю,
поставлю тебя царицею. Заколи мужа своего, спящего на постели, а это тебе
меч. В ответ жена сказала: Я рада, царь, что ты так велишь. Соломон же,
понимая мудростью своею ее мужа что тот не хочет убить жену свою, давал ему
меч острый; и понимая жену его, что она хочет убить мужа своего, дал ей меч
тупой, сделав вид, что он острый, говоря: Мечом этим заколи мужа своего,
спящего на постели твоей. Она же положила меч на грудь мужу своему и стала
водить им по его горлу, думая, что он острый. А тот быстро вскочил, полагая, что
напали какие-то враги, и увидев, что жена его держит меч, почему, сказал,
подруга моя, ты надумала убить меня? В ответ мужу своему жена сказала: Язык
человеческий убедил меня, чтобы я убила тебя. Он же хотел позвать людей и тут
понял, что научил ее Соломон.
Соломон же,
понимая мудростью своею ее мужа что тот не хочет убить жену свою, давал ему
меч острый; и понимая жену его, что она хочет убить мужа своего, дал ей меч
тупой, сделав вид, что он острый, говоря: Мечом этим заколи мужа своего,
спящего на постели твоей. Она же положила меч на грудь мужу своему и стала
водить им по его горлу, думая, что он острый. А тот быстро вскочил, полагая, что
напали какие-то враги, и увидев, что жена его держит меч, почему, сказал,
подруга моя, ты надумала убить меня? В ответ мужу своему жена сказала: Язык
человеческий убедил меня, чтобы я убила тебя. Он же хотел позвать людей и тут
понял, что научил ее Соломон.
Соломон, услышав об этом, вписал в Сборник этот стих, сказав: Человека нашел одного среди тысяч, а женщины во всем свете не нашел.
<0 СЛУГЕ И СЫНЕ>
В дни Соломона был в Вавилоне богатый человек, но не было у него детей. Прожив
половину дней своих, он усыновил мальчика-слугу. И, снарядив, послал его с
добром из Вавилона по торговым делам. Тот же, придя в Иерусалим, там разжился. И
попал в число бояр Соломона, восседающих на обеде у царя.
И, снарядив, послал его с
добром из Вавилона по торговым делам. Тот же, придя в Иерусалим, там разжился. И
попал в число бояр Соломона, восседающих на обеде у царя.
А тем временем у господина его дома родился сын. И когда исполнилось отроку
тринадцать лет, отец его умер. И сказала ему его мать: Сын, я слышала о холопе
отца твоего, что он разжился в Иерусалиме. Пойди и найди его. Тот пришел в
Иерусалим и спросил о человеке по имени, какое было у этого слуги. А тот был
очень известен. Ему сказали, что он у Соломона на обеде. И вошел отрок в царский
зал, спросил: Кто здесь такой-то боярин? Тот в ответ сказал: Это я. Подойдя,
отрок ударил его по лицу н сказал: Ты мой холоп! Не боярствуй, сидя, а иди
работать! И отдай мне свое добро. И разгневался царь, и стало ему досадно.
Обратившись к Соломону, отрок сказал: Если не будет, царь, этот холоп отца
моего моим, то за то, что я ударил его своей рукой, я получу удар мечом, который
меня убьет. Ударенный в свою очередь сказал: Я господский сын, а это слуга
отца моего и мой. У меня есть свидетели в Вавилоне. Царь сказал: Я не поверю
свидетелям. Лучше отправлю посла моего в Вавилон пусть он там возьмет плечевую
кость из гроба отца, и та мне поведает, кто из вас сын, а кто слуга. А вы будьте
тут. И царь послал своего доверенного посла, и тот принес плечевую кость. По
мудрости своей царь повелел чисто вымыть кость, посадил боярина своего и всех
мудрецов, бояр и книжников перед собой и сказал человеку, умеющему пускать
кровь: Пусти кровь этому боярину. Тот это сделал. Тогда царь велел положить
кость в теплую кровь. Смысл повеления он объяснил своим боярам, сказав: Если
это его сын, то кровь его прильнет к кости отца. Если же не прильнет, то раб.
И вынули кость из крови, и была кость белой, как и прежде. Тогда повелел царь в
другой сосуд пустить кровь отрока. И, вымыв кость, положили ее в кровь юноши. И
напиталась кость кровью. И сказал царь своим боярам: Видите своими глазами, что
говорит эта кость: Вот этот мой сын, а тот раб. Так рассудил их царь.
У меня есть свидетели в Вавилоне. Царь сказал: Я не поверю
свидетелям. Лучше отправлю посла моего в Вавилон пусть он там возьмет плечевую
кость из гроба отца, и та мне поведает, кто из вас сын, а кто слуга. А вы будьте
тут. И царь послал своего доверенного посла, и тот принес плечевую кость. По
мудрости своей царь повелел чисто вымыть кость, посадил боярина своего и всех
мудрецов, бояр и книжников перед собой и сказал человеку, умеющему пускать
кровь: Пусти кровь этому боярину. Тот это сделал. Тогда царь велел положить
кость в теплую кровь. Смысл повеления он объяснил своим боярам, сказав: Если
это его сын, то кровь его прильнет к кости отца. Если же не прильнет, то раб.
И вынули кость из крови, и была кость белой, как и прежде. Тогда повелел царь в
другой сосуд пустить кровь отрока. И, вымыв кость, положили ее в кровь юноши. И
напиталась кость кровью. И сказал царь своим боярам: Видите своими глазами, что
говорит эта кость: Вот этот мой сын, а тот раб. Так рассудил их царь.
<О ЦАРЕ АДАРИАНЕ>
После этого начал Соломон говорить боярам своим: Был Адриан-царь, и он повелел боярам своим звать его богом. И, не захотев, бояре его сказали: Царь наш! Думаешь ли ты в сердце своем, что не было бога прежде тебя? Мы будем звать тебя высшим царем среди царей, если ты возьмешь вышний Иерусалим и Святая Святых. Он же, собравшись с воинами многими, пошел, и взял Иерусалим, и возвратился назад, и сказал им: Подобно тому, как бог, что повелит и скажет, то и сделает, так и я сделал. Теперь называйте меня богом. Было же у него три философа. Ответил ему первый, сказав: Если хочешь зваться богом, учти: не может боярин называться царем, находясь в царском дворце, пока не выйдет наружу. Так и ты, если хочешь зваться богом, выйди из всей вселенной и там называйся богом.
А другой сказал: Не можешь ты называться богом. Царь спросил: Почему? Тот
ответил: Говорит Иеремия-пророк: Боги, не сотворившие неба и земли, да
погибнут. Если хочешь погибнуть, царь, называйся богом.
Если хочешь погибнуть, царь, называйся богом.
А третий сказал: Господин мой, царь! Помоги мне скорее! Царь спросил: Что с тобой? И сказал философ: Лодка моя в трех верстах отсюда готова потонуть, а все добро мое ней, и царь сказал: Не бойся. Пошлю людей, и они приведут ее. А философ сказал: Зачем тебе, царь, утруждать людей своих? Пошли тихий ветер, пусть он спасет ее. Тот же, поняв, промолчал недовольно и пошел в покой к своей царице.
И сказала царица: Философы обманули тебя, царь, сказав тебе, что не можешь
зваться богом. Желая же утешить его в той печали, она сказала: Ты царь, ты
богат, ты достоин великой чести. Сделай, сказала, одну вещь, и тогда зовись
богом. Царь спросил: Какую же? И царица ответила: Имущество божие, которое у
тебя, возврати. Он спросил: Какое имущество? Царица же сказала: Возврати
душу твою, которую вложил бог в тело твое, и тогда зовись богом. Он возразил:
Если не будет души во мне, в теле моем, как назовусь я богом? Царица же
сказала ему: Если ты душой своей не владеешь, то и богом не можешь
прозываться.
<О ПОХИЩЕННОЙ ЦАРЕВНЕ>
Царь Соломон просил царевну за себя. И не отдали ее за него. Тогда Соломон сказал бесам: Идите, и возьмите царевну ту, и приведите ее ко мне. И бесы, пойдя, похитили ее на переходе, когда она шла из покоев матери, посадили ее в судно и помчали по морю.
И вот увидела царевна, что человек воду пьет, а сзади у него вода выходит вон.
Она попросила: Объясните мне, что это такое. А бесы сказали: Тот тебе
объяснит, к кому тебя везем. Едут дальше и видят человек, в воде бродя, воды
просит, а волны его сбивают. И сказала царевна: Немилые мои сваты, а это мне
объясните: почему тот человек, в воде бродя, воды просит? А они сказали: Тот
тебе объяснит, к кому тебя везем. И еще проехали, и видят человек жнет сено,
идет, а два козла, за ним идя, траву поедают: что он сожнет, то они съедают. И
сказала царевна: Объясните мне, немилые мои сваты, объясните мне: почему бы тем
козлам не есть траву нежатую? А бесы ей сказали: Тот тебе объяснит, к кому
тебя везем.
И примчали ее к городу. Один бес пошел и поведал Соломону-царю: Привели невесту
тебе. Царь же, сев на коня, выехал на берег. И сказала ему царевна: Нынче я
твоя, царь. Но вот что мне объясни: человек пил воду, а сзади у него она
выходила вон. Царь сказал: Почему ты этому удивляешься? Ведь это дом царский:
сюда входит, отсюда выходит. И спросила царевна: И вот еще объясни мне, что
это такое: один человек, в воде бродя, воды просит, а волны сбивают его?
Соломон ответил: О невеста! Почему ты этому удивляешься, невеста? Это ведь
слуга царев: он одну тяжбу судит, а другой тяжбы ищет, чтобы царево сердце
сделать добрым. И вот что мне еще объясни: человек траву жнет, а что сожнет,
то два козла, за ним идя, поедают. Почему бы тем козлам, влезшим в сено, не есть
траву нежатую? И сказал царь: Невеста! Чему ты удивляешься? Если человек
возьмет другую жену с чужими детьми, то что он наработает, то они съедят. А для
себя у него ничего нет. А теперь иди, невеста, в мой покой.
Так она и стала его женой.
Перед сном (советы психолога)
Многие дети очень неохотно ложатся спать, даже если устали и у них слипаются глаза. Они упорно этому сопротивляются, боясь пропустить что-нибудь интересное. Однако приятный вечерний ритуал может помочь им успокоиться и приготовиться ко сну, и ваш ребенок будет с нетерпением ждать момента, когда он сможет провести несколько счастливых минут, получая от вас теплоту и внимание. Для взрослых это тоже будут приятные и радостные минуты, когда можно посекретничать и выразить свои чувства.
Прежде чем выключить свет и уложить ребенка спать, уделите ему немного времени и сделайте так, чтобы вам никто не мешал. Это поможет малышу полнее ощутить вашу любовь и заботу.
Вы можете обниматься, говорить, петь и дурачиться, рассказывать любимые старые сказки или придумывать новые. Постарайтесь создать непринужденную атмосферу, чтобы ребенок мог поделиться с вами своими мыслями, чувствами и фантазиями. Таким образом, уйдя из комнаты, вы оставите его путешествовать в сказочном мире.
Таким образом, уйдя из комнаты, вы оставите его путешествовать в сказочном мире.
К детям, которые обычно засыпают с трудом, нужен особый подход. Укладывайте их спать одним и тем же способом. Например, ласково потирайте ребенку спинку или, легка касаясь пальцами, поглаживайте личико, при этом повторяйте одно и тоже стихотворение, хотя бы такое:
Дети, звери и игрушки —
Все мечтают о подушке,
Если днем устали очень,
Добрых снов, спокойной ночи!
В этой статье мы предлагаем упражнения на релаксацию, которые могут быть особенно полезны некоторым детям.
Удобное место.
Постарайтесь сделать так, чтобы время, когда вы готовите малыша ко сну, было приятным и для вас. Поставьте около детской кроватки удобное кресло — лучше всего подойдет большое кресло-качалка. Эта немаловажная деталь сделает ваше общение с ребенком более непринужденным.
Вот несколько упражнений, которые помогут ребенку заснуть.
Волшебный ковер.
Выберите в комнате место, где было бы удобно рассказывать забавные истории.
Положите там коврик из ванной или маленький плед и назовите его «волшебным ковром». Сядьте на него вместе с ребенком.
Пусть малыш закроет глаза и представит, что он отправляется в страну чудес. Конечно, он должен быть одним из героев сказки. Начните со слов: «Сегодня вечером наш ковер-самолет полетит…» После этого ребенок продолжает фразу, выбирая место, куда направится волшебный ковер. Это может быть Диснейленд, Африка, Марс или зоопарк. Пусть ребенок сам фантазирует (вы помогаете, только когда это необходимо).
Продолжайте «путешествовать» до тех пор, пока малыш не успокоится. Сделайте так, чтобы волшебный ковер, возвратившись, опустился прямо в кровать, а затем сверните его до следующего вечернего путешествия.
Совет рассказчику.
Лучший способ стимулировать творческое воображение ребенка — относиться внимательно ко всему, что он говорит. Восхищайтесь героями сказок, которых он сам создал в своем воображении, и не будьте слишком строги к ним. Не удивляйтесь, если рассказ зайдет за границы здравого смысла.
Восхищайтесь героями сказок, которых он сам создал в своем воображении, и не будьте слишком строги к ним. Не удивляйтесь, если рассказ зайдет за границы здравого смысла.
«Баю-баю».
Самый лучший способ помочь ребенку заснуть — тихо напевать какую-нибудь колыбельную песню. Выберите мелодию и напевайте ее каждый вечер перед сном в течение недели. Пусть малыш тихонько, без слов подпевает вам. И когда он начнет засыпать, вы осторожно уходите из спальни, продолжая напевать.
Ваш репертуар может включать в себя традиционные колыбельные, современные песни о любви или народные мелодии. Ребенок может сам предложить песню из тех, которые разучивает в школе или в детском саду.
Как расслабиться.
Если вы чувствуете, что ребенок перевозбужден, попытайтесь успокоить его, расслабляя тело малыша. Для этого предложите ему лечь на кровать, приняв удобную позу, и закрыть глаза. Объясните, что он должен слушать и выполнять все, что вы говорите. Затем мягким, спокойным голосом скажите, чтобы он постарался расслабить каждую часть своего тела: «Расслабь пальцы ног: чувствуешь, что им стало приятно?» Подождите несколько секунд, а затем скажите, чтобы он постепенно расслабил ступни, полностью все мышцы ног, ладони и руки.
Затем мягким, спокойным голосом скажите, чтобы он постарался расслабить каждую часть своего тела: «Расслабь пальцы ног: чувствуешь, что им стало приятно?» Подождите несколько секунд, а затем скажите, чтобы он постепенно расслабил ступни, полностью все мышцы ног, ладони и руки.
Сделайте паузу на несколько секунд и продолжайте давать команды — расслабить плечи, шею и, наконец, голову. После этого велите малышу полностью расслабиться, успокоиться и думать о чем-нибудь приятном и хорошем. Теперь ласково положите руки ему на лоб и объясните, что расслабиться можно в любой момент, принимая удобную позу и мысленно достигая этого состояния.
Совет родителям.
Это упражнение полезно не только ребенку, но и родителям. Если день был тяжелый и вы слишком устали для того, чтобы играть, уединитесь ненадолго у себя в спальне. Ваши мысли должны быть свободны от забот, а все мышцы расслаблены. Постепенно начинайте глубоко дышать и сосредоточьтесь на том, что вам предстоит провести с ребенком несколько минут, которые доставят вам истинное удовольствие. Постарайтесь удержать этот образ в своем воображении. Посмотрите, удастся ли вам избавиться от усталости.
Постарайтесь удержать этот образ в своем воображении. Посмотрите, удастся ли вам избавиться от усталости.
Вечерний дневник.
Для этого занятия подойдет блокнот, записная книжка в переплете или просто листы бумаги.
Вместе с ребенком записывайте, какие примечательные события произошли в этот день. Спросите, что ему особенно запомнилось, и запишите. Некоторые дети будут с удовольствием долго и подробно рассказывать о том, что им хотелось бы записать. Другим потребуются наводящие вопросы: что тебе понравилось сегодня больше всего? Тебя что-нибудь расстроило? Ты хочешь завтра опять этим заняться? Вспомни какой-нибудь забавный случай. Расскажи, что нового ты узнал сегодня. Тебе это было интересно? Что ты хотел бы записать в дневник?
Поговорим о животных.
Выключив свет, попросите малыша рассказать о том, как он провел день. Попробуйте задать ему такой вопрос: «Как ты думаешь, этот день похож на какое-нибудь животное?» И если последует положительный ответ, то попросите назвать это животное. Эта игра дает прекрасную возможность подробно поговорить с ребенком о животном мире. Вы получите большое удовольствие, рассуждая с ним о разных птицах, зверях и насекомых. Жаркий и долгий летний день, оказывается, можно сравнить с медлительной черепахой, а день, заполненный заботами, суетой, спешкой, — с обезьяной, ящерицей или лисицей. Сначала вы должны сами сказать, кого напоминает прожитый вами день, например: «Я сегодня трудился, как муравей, и очень устал». Затем спросите малыша: «А на кого был похож день у тебя?»
Эта игра дает прекрасную возможность подробно поговорить с ребенком о животном мире. Вы получите большое удовольствие, рассуждая с ним о разных птицах, зверях и насекомых. Жаркий и долгий летний день, оказывается, можно сравнить с медлительной черепахой, а день, заполненный заботами, суетой, спешкой, — с обезьяной, ящерицей или лисицей. Сначала вы должны сами сказать, кого напоминает прожитый вами день, например: «Я сегодня трудился, как муравей, и очень устал». Затем спросите малыша: «А на кого был похож день у тебя?»
Пространственное восприятие.
Изготовьте панно, приклеив большой кусок однотонной фланели на картон. Из разноцветного фетра вырежьте разнообразные фигуры. Например, несколько больших, средних и маленьких квадратов; синих, красных и желтых треугольников. Кроме того, вырежьте длинную полоску из черной фланели.
Пусть ваш ребенок красиво оформит конверт, папку или коробку для хранения этих предметов. Держите конверт в спальне, и когда наступит вечер, поиграйте с ними. Вот несколько вариантов игры. По очереди располагайте фигуры сверху и снизу черной полосы: в один из вечеров разложите их по размеру, в следующий раз — по цвету. Попросите ребенка найти самый большой красный треугольник и поместить его над черной линией. Затем вы, по просьбе ребенка, кладете самый маленький треугольник над полосой. Или так: найдя самый большой прямоугольник, ребенок должен разместить внутри него самый маленький кружок. На следующий вечер можно разложить фигурки по цвету или форме. Во время игры старайтесь использовать сравнения при описании предметов. Употребляйте такие слова, как «большой», «огромный», «гигантский»; «меньше чем…», «больше чем…», «такой же, как…»
Вот несколько вариантов игры. По очереди располагайте фигуры сверху и снизу черной полосы: в один из вечеров разложите их по размеру, в следующий раз — по цвету. Попросите ребенка найти самый большой красный треугольник и поместить его над черной линией. Затем вы, по просьбе ребенка, кладете самый маленький треугольник над полосой. Или так: найдя самый большой прямоугольник, ребенок должен разместить внутри него самый маленький кружок. На следующий вечер можно разложить фигурки по цвету или форме. Во время игры старайтесь использовать сравнения при описании предметов. Употребляйте такие слова, как «большой», «огромный», «гигантский»; «меньше чем…», «больше чем…», «такой же, как…»
Чтобы внести разнообразие в эту игру, используйте печатные буквы. Их можно купить, или сделать из фланели, или написать на большом листе бумаги — по нескольку одинаковых букв. Тогда можно предложить ребенку задание найти, например, все буквы «М». При этом заметьте, сколько времени ему потребуется на поиск. Найдя буквы, он может сосчитать их. Если буквы нарисованы на листе бумаги, обведите их кружками.
Найдя буквы, он может сосчитать их. Если буквы нарисованы на листе бумаги, обведите их кружками.
Рассказ об игрушке.
У большинства детей есть игрушечные животные. Ложась спать, малыш чувствует себя в безопасности, если рядом с ним лежит любимая кукла или зверюшка. Поэтому сделайте одну из игрушек главным персонажем вечерней сказки. Пусть ребенок сам выберет, какую захочет, и расскажет о ней историю. Только нужно обязательно помочь малышу.
Начните рассказ, а затем предложите ему продолжить. Например: «Жил был лев по имени… Лев жил в… Он очень любил есть…» Теперь спросите: «Как ты думаешь, кто был его другом?» Это позволит пробудить воображение и фантазию ребенка. Поинтересуйтесь, где лев любил гулять, о чем он думал, просыпаясь по утрам, и т. д. Постарайтесь понять все, о чем хочет сказать ребенок, и помогите ему сочинить интересную историю.
Почитаем вместе.
Все родители знают, какую важную роль в развитии ребенка играет чтение. Это занятие традиционное, но оно во все времена увлекало детей. Исследования показали, что ребенок, которому много читают, быстрее начинает читать самостоятельно. Некоторые дети любят снова и снова возвращаться к одной и той же книге. Другие предпочитают разнообразие.
Это занятие традиционное, но оно во все времена увлекало детей. Исследования показали, что ребенок, которому много читают, быстрее начинает читать самостоятельно. Некоторые дети любят снова и снова возвращаться к одной и той же книге. Другие предпочитают разнообразие.
Если ваш ребенок постигает грамоту, старайтесь читать с ним по очереди одну и ту же книгу. Выбирайте по мере возможности хорошую детскую литературу — советуйтесь с библиотекарем, педагогом или просматривайте проспекты и другие информационные источники о лучших книгах для детей. Необходимо подбирать издания, соответствующие возрасту ребенка, хорошо написанные и красочно оформленные. Такая литература стимулирует воображение ребенка, и, если книга действительно интересная, она доставит удовольствие и вам.
Когда малыш начнет уже читать сам, не прекращайте читать ему вслух. Даже дети, которые уже хорошо овладели грамотой, любят, когда им читают перед сном. Если ребенок, увлекаясь, не может остановиться, тогда заранее вложите закладку на несколько страниц вперед и заканчивайте чтение, когда дойдете до этого места.
Супер-герой.
Конечно, чтение вслух, рассказы и придумывание всякого рода историй перед сном доставляют ребенку огромное удовольствие. Вот один из способов, как рассказывать сказки, чтобы ребенок почувствовал к ним особый интерес. Придумайте рассказ, героем которого, конечно, должен быть ваш ребенок. Он решает все сложные задачи и находит выход из любого положения. Например, после многочисленных причудливых поворотов сюжета ваш рассказ приблизился к моменту, когда «Маленький львенок потерялся; он жалобно скулит, не зная, куда идти, сворачивается клубочком на земле и вот-вот заплачет. Как вдруг появляется… Салли. Салли пришла, чтобы выручить его. Только она знает, что делать».
Мой календарь.
Если у вас на кухне висит календарь, где отмечаются важные события .в жизни семьи, или просто есть записная книжка, без которой не обойтись, ребенок, подражая вам, непременно захочет завести свой календарь. Возьмите для этого бумажные карточки, проколите дырки в уголках и скрепите их металлическим кольцом или веревочкой. Проставьте на каждой карточке с одной стороны число — от 1 до 28, 30 или 31, в зависимости от месяца. Каждый вечер вы или ребенок должны рисовать на обратной стороне карточки картинку, изображающую какой-то эпизод проведенного вами дня. Обсудите с ребенком, как у него прошел день и выберите событие, которое можно изобразить на бумаге. Пролистайте календарь заранее и отметьте в нем наиболее важные дела, которые вас ждут в течение недели или месяца. Можно оставлять в нем записки друг другу: «Мама, вспомни про воздушные шары», «Дэвид, не забудь убрать постель».
Проставьте на каждой карточке с одной стороны число — от 1 до 28, 30 или 31, в зависимости от месяца. Каждый вечер вы или ребенок должны рисовать на обратной стороне карточки картинку, изображающую какой-то эпизод проведенного вами дня. Обсудите с ребенком, как у него прошел день и выберите событие, которое можно изобразить на бумаге. Пролистайте календарь заранее и отметьте в нем наиболее важные дела, которые вас ждут в течение недели или месяца. Можно оставлять в нем записки друг другу: «Мама, вспомни про воздушные шары», «Дэвид, не забудь убрать постель».
Знаешь ли ты, что я чувствую?
Время перед сном — самый удобный момент для доверительного, задушевного разговора. Раскрываясь друг перед другом, вы сможете узнать, совпадают ли чувства, которые овладевают вами и вашим ребенком, в определенной жизненной ситуации. Можно задавать вопросы общего характера, например: «Что ты чувствуешь, когда встречаешься с чем-либо неприятным? Что ты испытываешь, если твой друг поступает нечестно?» Вопросы могут быть и более конкретными: «Что ты почувствовал, когда сегодня утром мы встретили доктора?», «Что ты подумал, когда за обедом папа рассердился на Мэта?»
Разговор должен начать взрослый и при этом быть искренним. Тогда и ребенок будет говорить откровенно и сможет понять, что взрослые также способны переживать.
Тогда и ребенок будет говорить откровенно и сможет понять, что взрослые также способны переживать.
Как только вы освоите эту игру, вам станет легче справляться с неприятными ситуациями, а малыша она научит общаться с другими людьми и делиться своими чувствами. Наконец, вы многое узнаете о своем ребенке.
Будьте осторожны!
Никогда не указывайте ребенку, как нужно или как не нужно относиться к тому или иному событию, или что он неверно называет те чувства, которые испытывает. Если ребенок говорит: «Я схожу с ума», а вы считаете, что он просто испугался, можно сказать: «А я, попав в такую ситуацию первый раз, не сходил с ума, я просто боялся». Если вы хотите сохранить с ним доверительные и близкие отношения, никогда не говорите: «Ты не сошел с ума, а просто боишься».
Друзья на картинке.
Если вы собираетесь уйти из дому на целый день, попросите ребенка просмотреть старые журналы (которые вам не нужны) и найти в них картинки с детьми или животными. Пусть кто-нибудь поможет ему вырезать их и приклеить на лист плотной бумаги. Вечером, перед сном, поговорите с ребенком об этих картинках. Посоветуйте ему придумать животному или человеку имя, семью, Друзей, любимые игры, любимую еду.
Пусть кто-нибудь поможет ему вырезать их и приклеить на лист плотной бумаги. Вечером, перед сном, поговорите с ребенком об этих картинках. Посоветуйте ему придумать животному или человеку имя, семью, Друзей, любимые игры, любимую еду.
Соберите коллекцию таких картинок, и пусть малыш выберет из них ту, о которой он хотел бы поговорить этим вечером. Можно познакомить один персонаж с другим.
Вместо того чтобы читать ребенку нотацию о том, как себя вести, можно использовать для этого картинки — расскажите, как должен поступить ребенок, изображенный на той или иной картинке.
Воспоминания.
Дети, как правило, любят слушать разные истории из жизни своих родителей, братьев и сестер. Как-нибудь вечером откройте старый семейный альбом и расскажите ребенку, кто это снят на фотографиях, где и при каких обстоятельствах сделаны те или иные снимки.
Лицо на стене.
Впервые мы узнали от соседей, как интересно играть в «лицо-призрак». Вырежьте в центре листа бумаги губы, нос и глаза. Затем, находясь в темной комнате, осветите фонариком одну сторону листа, и вы увидите, как на стене появляется страшное лицо. Придумайте ему имя и, конечно, «биографию». На следующий вечер сделайте другое «лицо». Пусть «призраки» встретятся друг с другом и развлекут вас забавной ночной историей.
Вырежьте в центре листа бумаги губы, нос и глаза. Затем, находясь в темной комнате, осветите фонариком одну сторону листа, и вы увидите, как на стене появляется страшное лицо. Придумайте ему имя и, конечно, «биографию». На следующий вечер сделайте другое «лицо». Пусть «призраки» встретятся друг с другом и развлекут вас забавной ночной историей.
Игра теней.
Эта игра основана на активном использовании света и тени. В нее с удовольствием играют и взрослые и дети. Подвесьте в центре комнаты лист бумаги. Выключите свет и осветите фонариком лист с задней стороны. В это же время кто-нибудь должен шевелить пальцами и руками между листом бумаги и фонариком, проецируя на бумагу тень. Те, кто сидит перед «экраном», должны понять, на что похожи тени, и рассказать какую-нибудь историю. В эту игру лучше всего играть вечером в выходные дни, когда к вам в гости приезжают родственники и друзья.
Массаж.
По вечерам мы часто беседуем с ребенком, обсуждаем события дня, читаем, секретничаем. Однако бывает, что малышу недостаточно такого общения — он хочет чувствовать ваше прикосновение. Мягкий, ласковый массаж поможет ему успокоиться и заснуть. Что может быть приятнее нежного поглаживания спины, особенно если при этом еще и рассказывают сказку или тихо напевают песенку.
Однако бывает, что малышу недостаточно такого общения — он хочет чувствовать ваше прикосновение. Мягкий, ласковый массаж поможет ему успокоиться и заснуть. Что может быть приятнее нежного поглаживания спины, особенно если при этом еще и рассказывают сказку или тихо напевают песенку.
Если малыш перевозбужден, начните массаж со ступней (если только он не боится щекотки), предложив ему расслабиться и закрыть глазки. Помассируйте ноги в области икры, после чего у него должны расслабиться мышцы ног, а затем то же самое проделайте с руками малыша. Потом попросите его расслабить плечи и мягко их помассируйте. По завершении перейдите к шее и наконец к голове.
Делайте это при слабом освещении, очень спокойно, говорите монотонным голосом или тихонько напевайте, и вы увидите, поможет ли это вашему ребенку заснуть.
Осторожные прикосновения.
Конечно, прикасаясь к ребенку, вы не хотели бы вызывать у него сексуальные ощущения. По мере того как он взрослеет и развивается, необходимо напоминать ему, что никто не должен касаться его тела, вызывая неприятные ощущения. Внушите ребенку, что если такое произойдет, то, прежде всего, он должен рассказать об этом родителям — в таких обстоятельствах родители всегда могут помочь. Перед тем как ребенок пойдет в школу, объясните ему, что окружающие могут прикасаться к его телу, только когда он разрешит это: «А если тебе неприятно, значит, происходит что-то плохое».
Внушите ребенку, что если такое произойдет, то, прежде всего, он должен рассказать об этом родителям — в таких обстоятельствах родители всегда могут помочь. Перед тем как ребенок пойдет в школу, объясните ему, что окружающие могут прикасаться к его телу, только когда он разрешит это: «А если тебе неприятно, значит, происходит что-то плохое».
«Карта» массажа.
Существует особый способ массажа спины, специально предназначенный для того, чтобы научить ребенка легко распознавать на географической карте стороны света.
Начните поглаживать спинку малыша, поясняя, в каком направлении вы это делаете. Если ваша рука движется вверх, значит вы направляетесь к «северной» части спины. Если вниз — скажите, что вы путешествуете на «юг». Почешите ему левый бок и объясните, что это «запад». Затем переместитесь направо, к «восточному боку». И когда ребенок научится распознавать стороны света, он сможет сам сказать вам, в каком направлении его нужно помассировать. На следующий вечер можно поменяться местами, попросив ребенка, чтобы он в определенном направлении погладил вам спину. Когда малыш начнет хорошо различать стороны света, расскажите ему о северо-западе, юго-востоке. Позже повторите «урок», глядя на глобус или географическую карту.
Когда малыш начнет хорошо различать стороны света, расскажите ему о северо-западе, юго-востоке. Позже повторите «урок», глядя на глобус или географическую карту.
Беседа у телевизора.
Обращали вы внимание на то, каким образом родители используют телевизор? Для большинства из них — это способ занять ребенка, когда нужно сделать свои дела.
Однако телевизионные передачи предоставляют нам хорошую возможность для общения с ребенком. Хотя бы раз в неделю посмотрите с ребенком его любимую передачу. Но сначала надо, чтобы малыш подготовился ко сну. Затем, обнявшись, удобно устраивайтесь на кушетке, на полу или в кресле и смотрите передачу, при этом обсуждая ее.
У кого из вас есть видеомагнитофоны, необязательно смотреть программы, которые демонстрируются на телеканалах. Запишите понравившуюся ребенку передачу на кассету и просматривайте ее вместе в удобное время. Кассету с видеозаписями о путешествиях, спортивных соревнованиях можно взять и напрокат. Фильмы о подводном мире и жизни животных особенно хороши для совместного вечернего просмотра. Если перед сном вам вместе лишь изредка удается посмотреть телевизор, такое развлечение станет хорошим подарком для ребенка — ведь ваша компания будет ему особенно приятна. Пусть кто-нибудь другой из членов семьи отвечает на звонки и улаживает домашние дела. Относитесь к этому вечернему ритуалу серьезно и с полным вниманием, тогда ребенок поймет, что он многое для вас значит.
Фильмы о подводном мире и жизни животных особенно хороши для совместного вечернего просмотра. Если перед сном вам вместе лишь изредка удается посмотреть телевизор, такое развлечение станет хорошим подарком для ребенка — ведь ваша компания будет ему особенно приятна. Пусть кто-нибудь другой из членов семьи отвечает на звонки и улаживает домашние дела. Относитесь к этому вечернему ритуалу серьезно и с полным вниманием, тогда ребенок поймет, что он многое для вас значит.
Утомленная парочка.
Если день выдался трудный и вы устали, вам обоим необходим именно такой отдых. Выключите свет, лягте рядом с ребенком на кровать, разумеется, если позволяют ее габариты, и скажите: «Папа (или мама) сегодня вечером ужасно устал(а), поэтому не можешь ли ты рассказать мне какую-нибудь хорошую сказку, чтобы мне легче было заснуть. Посмотрим, кто из нас заснет первым». Попытайтесь заснуть рядом с малышом. Если кровать маленькая, возьмите подушку и расположитесь рядом на полу.
Не привыкайте!
Вполне возможно, что вам понравится иногда вздремнуть рядом с малышом, и вы начнете делать это регулярно. Однако не следует превращать это в привычку, поскольку ребенок тогда сможет засыпать только рядом с вами, что может оказаться не всегда удобно. Лучше делать это изредка, когда вы уверены, что вам ничто не помешает.
Однако не следует превращать это в привычку, поскольку ребенок тогда сможет засыпать только рядом с вами, что может оказаться не всегда удобно. Лучше делать это изредка, когда вы уверены, что вам ничто не помешает.
Текущие события.
Ваш ребенок, по-видимому, уже привык к тому, что вы читаете газеты и журналы. Просматривая их вместе с вами, он почувствует себя взрослым и ему будет особенно интересно, если вы расскажете о том, что изображено на картинках. Не забывайте, что малыш только играет во взрослого, но при этом еще ребенок, поэтому, давая пояснения, постарайтесь избегать сложных терминов, которые могут его утомить. Кроме того, разумно выбирайте темы.
Показывайте друг другу картинки в журналах и газетах и подробно рассматривайте важные и интересные детали. Помогите ему подключить воображение и выявить способность оценивать, тогда вы поймете, что он видит на картинке. Вот некоторые вопросы, которые могут быть полезны.
Что происходит на картинке?
Как ты считаешь, часто ли люди делают это?
Ты тоже хотел бы заниматься этим? А как бы ты это сделал?
Именно так наш четырехлетний друг Адам во время последних президентских выборов стал очень хорошо разбираться в событиях. Он узнавал кандидатов, увидев их в газете или журнале, и всех агитировал за своего избранника.
Он узнавал кандидатов, увидев их в газете или журнале, и всех агитировал за своего избранника.
Звездочет.
Это занятие может показаться не таким увлекательным, если вы живете в городе. Но если у вас есть дом в пригороде, а еще лучше в сельской местности, эта игра оставит неизгладимое впечатление у вас и вашего малыша. Вы можете превратить ее в ежегодный ритуал, когда отдыхаете за городом. Если метеорологи предсказывают ясную и теплую погоду, позвольте ребенку не ложиться спать до темноты, и вместе отправляйтесь на улицу, захватив спальный мешок или одеяло и подушку. Лягте поудобнее и смотрите на звезды, обсуждая то, что видите. Если вам удастся найти время для этого занятия, вы не пожалеете.
Небольшая подсказка.
Постарайтесь избегать вопросов, на которые можно ответить только словами «да» и «нет».
Разговор о завтрашнем дне.
Многие дети любят спрашивать: «А что будет завтра?» Разговоры о том, что их ждет впереди, вырабатывают у детей способность планировать поступки, ставить перед собой цель, а также развивают искусство логической оценки событий. Перед тем как поцеловать ребенка на ночь, постарайтесь обсудить, как прошел у него день и что его ждет завтра. Пусть он сам попытается определить дела на завтра. Например, он может придумать, что будет есть утром; чем займется, когда вы уйдете на работу; или решить, из какого окошка помахать на прощание рукой. Если на следующий день предстоит что-то особенное — гость к обеду, визит к бабушке, покупка новых ботинок, вы получаете прекрасную возможность вспомнить об этом.
Перед тем как поцеловать ребенка на ночь, постарайтесь обсудить, как прошел у него день и что его ждет завтра. Пусть он сам попытается определить дела на завтра. Например, он может придумать, что будет есть утром; чем займется, когда вы уйдете на работу; или решить, из какого окошка помахать на прощание рукой. Если на следующий день предстоит что-то особенное — гость к обеду, визит к бабушке, покупка новых ботинок, вы получаете прекрасную возможность вспомнить об этом.
Составляя план, помните не только о домашних делах, но и о времени для развлечений. Однако накануне вечером не планируйте каких-либо срочных и обязательных дел, которые непременно надо закончить или начать и которые грозят ребенку неприятностями — например, визит к зубному врачу.
У малышей недостаточно развито чувство времени, поэтому попытки распределить свой день вносят элемент предсказуемости и безопасности их жизни.
Когда вы желаете детям «спокойной ночи», им становится так тепло и приятно, что часто они не хотят вас отпускать. Мы хорошо знаем, как всякий раз, когда родители собираются выйти из комнаты, ребенок умоляюще повторяет: «Ну еще чуть-чуть…» Вместо того чтобы резко выйти, дайте ему понять, что действительно пора прощаться. Достаточно будет сказать: «Поговорим еще чуть-чуть, и я уйду», или можно спеть прощальную песенку, или произнести несколько слов вместе, или погладить его по спинке. Сказав, что наступило время прощания, обязательно держите свое слово. Пусть ребенок знает, что вы очень серьезно относитесь к этой процедуре и не намерены поддаваться на его уловки. Если вы держитесь твердо, ребенок скоро привыкнет к этому, и вечернее прощание станет для вас обоих приятным моментом, а не постоянной борьбой за ваше право уйти.
Мы хорошо знаем, как всякий раз, когда родители собираются выйти из комнаты, ребенок умоляюще повторяет: «Ну еще чуть-чуть…» Вместо того чтобы резко выйти, дайте ему понять, что действительно пора прощаться. Достаточно будет сказать: «Поговорим еще чуть-чуть, и я уйду», или можно спеть прощальную песенку, или произнести несколько слов вместе, или погладить его по спинке. Сказав, что наступило время прощания, обязательно держите свое слово. Пусть ребенок знает, что вы очень серьезно относитесь к этой процедуре и не намерены поддаваться на его уловки. Если вы держитесь твердо, ребенок скоро привыкнет к этому, и вечернее прощание станет для вас обоих приятным моментом, а не постоянной борьбой за ваше право уйти.
Детей легче уложить в постель, если они знают, что у них уже не получится снова начать «бродить по дому». Поэтому, когда укладываете ребенка спать, включите ночной свет и объясните ему, что, пока горит ночник, он должен лежать в постели — спать, размышлять или, если вы позволите, слушать музыку.
Прогони привидение.
Беспокоят ли вашего ребенка кошмары? Объясните своему маленькому трусишке, что привидения и чудища живут только в воображении человека. Поэтому ими можно управлять, просто приказав им исчезнуть. Расскажите ему, что это можно сделать даже мысленно. Однако иногда требуется дополнительная помощь.
Предложите малышу какое-нибудь специальное «средство от привидений». Можно взять маленький мешочек с «волшебным» порошком (мука, тальк, сахарная пудра — все подойдет). Нужно посыпать порошком края постели, чтобы убедить его, что он защищен от чудища. Можно распылить его в воздухе, придав туману легкий приятный запах. Или же попрыскайте вокруг кровати «волшебной» водой из бутылочки, предварительно добавив туда несколько капель ванилина или мяты.
Прикосновение к лицу.
Некоторые дети особенно любят, когда их перед сном успокаивают таким образом. Закончив вечерний разговор и выключив свет, ласково проведите рукой по лицу малыша— по бровям, вокруг щек, над верхней губой, по подбородку и по лбу, — тихонько приговаривая: «Спи спокойно до утра».
Источник: Ш. Фельдчер, С. Либерман. «400 способов занять ребенка от 2 до 8 лет».
Сводка поэмы от матери к сыну и анализ
Сводка поэмы от матери к сыну и анализ | ЛитЧартс«От матери к сыну» — стихотворение Лэнгстона Хьюза. Впервые он был опубликован в 1922 году в The Crisis , журнале, посвященном продвижению гражданских прав в Соединенных Штатах, а позже был собран в первой книге Хьюза The Weary Blues (1926). Стихотворение описывает трудности, с которыми сталкиваются чернокожие в расистском обществе, намекая на множество препятствий и опасностей, которые расизм ставит на их пути — препятствия и опасности, с которыми белым людям не приходится сталкиваться. В то же время в стихотворении утверждается, что чернокожие могут преодолеть эти трудности благодаря настойчивости, стойкости и взаимной поддержке.
- Читать полный текст «От матери к сыну»
Полный текст «От матери к сыну»
1Ну, сынок, я тебе скажу:
2Жизнь для меня не была хрустальной лестницей.
3 В нем были гвозди,
4 И осколки,
5 И доски порваны,
6 И места без ковра на полу—
7Голые.
8 Но все время
9 Я карабкался,
10 И достигал приземления,
11 И поворачивал за угол,
12И иногда ходить в темноте
13Где не было света.
14Так что, мальчик, не поворачивайся назад.
15Не садитесь на ступеньки
16Потому что вам будет тяжелее.
17Теперь ты не упади —
18Потому что я все еще иду, милый,
19Я все еще поднимаюсь,
20И жизнь для меня не была хрустальной лестницей.
Полный текст «От матери к сыну»
1Ну, сынок, я тебе скажу:
2Жизнь для меня не была хрустальной лестницей.
3 В нем были гвозди,
4 И осколки,
5 И доски порваны,
6 И места без ковра на полу—
7Голые.
8Но все время
9Я карабкался,
10И достигал приземления,
11И поворачивал за угол,
12И иногда ходил в темноте
легкий.
14Так что, мальчик, не поворачивайся назад.
15Не садитесь на ступеньки
16Потому что вам будет тяжелее.
17Теперь ты не упади —
18Потому что я все еще иду, милый,
19Я все еще поднимаюсь,
20И жизнь для меня не была хрустальной лестницей.
-
Краткое содержание «От матери к сыну»
- </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span><span data-lm-id="15721
553" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="3" data-lm-fot="">It’s had tacks in it,</span></p> <p><span class="poem-inline__line-number">4</span><span data-lm-id="15721
553" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="3">And splinters,</span></p> <p><span class="poem-inline__line-number">5</span><span data-lm-id="15721
553" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="3" data-lm-lot="">And boards torn up,</span></p> <p><span class="poem-inline__line-number">6</span><span data-lm-id="15721
226" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="4" data-lm-fot="">And places with no carpet on the floor—</span></p> <p><span class="poem-inline__line-number">7</span><span data-lm-id="15721226" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="4" data-lm-lot="">Bare. </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span><span data-lm-id="15721483" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="5" data-lm-fot="">But all the time</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span><span data-lm-id="15721483" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="5" data-lm-lot="">I’se been a-climbin’ on,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span><span data-lm-id="15721325" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="1" data-lm-fot="" data-lm-lot="">And reachin’ landin’s,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span><span data-lm-id="15721063" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="2" data-lm-fot="" data-lm-lot="">And turnin’ corners,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span><span data-lm-id="15721401" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="3" data-lm-fot="">And sometimes goin’ in the dark</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span><span data-lm-id="15721401" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="3" data-lm-lot="">Where there ain’t been no light.
</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span><span data-lm-id="15721483" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="5" data-lm-fot="">But all the time</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span><span data-lm-id="15721483" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="5" data-lm-lot="">I’se been a-climbin’ on,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span><span data-lm-id="15721325" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="1" data-lm-fot="" data-lm-lot="">And reachin’ landin’s,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span><span data-lm-id="15721063" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="2" data-lm-fot="" data-lm-lot="">And turnin’ corners,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span><span data-lm-id="15721401" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="3" data-lm-fot="">And sometimes goin’ in the dark</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span><span data-lm-id="15721401" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="3" data-lm-lot="">Where there ain’t been no light. </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span><span data-lm-id="15721090" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="4" data-lm-fot="" data-lm-lot="">So boy, don’t you turn back.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span><span data-lm-id="15721697" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="5" data-lm-fot="">Don’t you set down on the steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span><span data-lm-id="15721697" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="5" data-lm-lot="">’Cause you finds it’s kinder hard.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span><span data-lm-id="15721841" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="1" data-lm-fot="" data-lm-lot="">Don’t you fall now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span><span data-lm-id="15721419" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="2" data-lm-fot="">For I’se still goin’, honey,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="15721419" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="2" data-lm-lot="">I’se still climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span><span data-lm-id="15721
</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span><span data-lm-id="15721090" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="4" data-lm-fot="" data-lm-lot="">So boy, don’t you turn back.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span><span data-lm-id="15721697" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="5" data-lm-fot="">Don’t you set down on the steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span><span data-lm-id="15721697" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="5" data-lm-lot="">’Cause you finds it’s kinder hard.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span><span data-lm-id="15721841" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="1" data-lm-fot="" data-lm-lot="">Don’t you fall now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span><span data-lm-id="15721419" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="2" data-lm-fot="">For I’se still goin’, honey,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="15721419" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="2" data-lm-lot="">I’se still climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span><span data-lm-id="15721272" class="poem-inline__lm—content-one-to-one" data-color="3" data-lm-fot="" data-lm-lot="">And life for me ain’t been no crystal stair.
 </span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-toggle-drawer=»»>
</span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-toggle-drawer=»»>
Темы «От матери к сыну»
Построчное объяснение и анализ «От матери к сыну»
- </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-position=»1″>
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-position=»1″>
Строки 1-2
Ну, сынок, я тебе скажу:
Жизнь для меня не была хрустальной лестницей.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-position=»2″>
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-position=»2″>
Строки 3-7
В нем были гвозди,
И осколки,
И доски порваны,
И места без ковра на полу—
Голый.
 </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-position=»3″>
</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-position=»3″>
Строки 8-13
Но все время
Я карабкался,
И достигая земли,
И повороты,
И иногда хожу в темноте
Там, где не было света.
 </p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-position=»4″>
</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-position=»4″>
Строки 14-16
Так что, мальчик, не поворачивайся назад.
Не садись на ступеньки
Потому что тебе кажется, что это тяжелее.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span><span data-lm-id="1572624225362" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Don’t you fall now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span><span data-lm-id="1572624225362" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">For I’se still goin’, honey,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1572624225362" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se still climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span><span data-lm-id="1572624225362" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">And life for me ain’t been no crystal stair.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span><span data-lm-id="1572624225362" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Don’t you fall now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span><span data-lm-id="1572624225362" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">For I’se still goin’, honey,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1572624225362" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se still climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span><span data-lm-id="1572624225362" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">And life for me ain’t been no crystal stair. </span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-position=»5″>
</span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-position=»5″>
Строки 17-20
Не падай сейчас—
Потому что я все еще иду, дорогая,
Я все еще карабкаюсь,
И жизнь для меня не была хрустальной лестницей.
Символы «от матери к сыну»
- </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.
- Посмотрите, где появляется этот символ в поэме.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no <span data-lm-id="1572624354980" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">crystal stair</span>.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Symbol» data-position=»1″ data-title=»Crystal Stair»>
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no <span data-lm-id="1572624354980" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">crystal stair</span>.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Symbol» data-position=»1″ data-title=»Crystal Stair»>
Хрустальная лестница
Поэтические приемы и образный язык «Мать сыну»
- </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in <span data-lm-id="1572192471737" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">it,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And <span data-lm-id="1572192475517" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">splinters,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And boards torn <span data-lm-id="1572192478613" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">up,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the <span data-lm-id="1572192482669" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">floor—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span><span data-lm-id="1572192485254" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Bare.
- Посмотрите, где появляется этот поэтический прием в поэме.
 </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ <span data-lm-id="1572192502483" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">on,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ <span data-lm-id="1572192505523" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">landin’s,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ <span data-lm-id="1572192509149" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">corners,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no <span data-lm-id="1572192514624" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">light.
</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ <span data-lm-id="1572192502483" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">on,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ <span data-lm-id="1572192505523" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">landin’s,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ <span data-lm-id="1572192509149" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">corners,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no <span data-lm-id="1572192514624" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">light. </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn <span data-lm-id="1572192518119" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">back.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder <span data-lm-id="1572192521493" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">hard.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall <span data-lm-id="1572192524694" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, <span data-lm-id="1572192528709" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">honey,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still <span data-lm-id="1572192532398" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal <span data-lm-id="1572192535128" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">stair.
</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn <span data-lm-id="1572192518119" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">back.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder <span data-lm-id="1572192521493" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">hard.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall <span data-lm-id="1572192524694" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, <span data-lm-id="1572192528709" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">honey,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still <span data-lm-id="1572192532398" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal <span data-lm-id="1572192535128" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">stair. </span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»1″ data-title=»End-Stopped Line»>
</span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»1″ data-title=»End-Stopped Line»>
Конечная линия
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the <span data-lm-id="1572192684658" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span><span data-lm-id="1572192684658" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">’Cause</span> you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the <span data-lm-id="1572192684658" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span><span data-lm-id="1572192684658" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">’Cause</span> you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair. </p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»2″ data-title=»Enjambment»>
</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»2″ data-title=»Enjambment»>
Анджамбмент
- Посмотрите, где появляется этот поэтический прием в поэме.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So <span data-lm-id="1663778272815" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">boy</span>, don’t you turn <span data-lm-id="1663778275239" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">back</span>.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you <span data-lm-id="1663778277577" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">set</span> down on the <span data-lm-id="1663778280282" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So <span data-lm-id="1663778272815" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">boy</span>, don’t you turn <span data-lm-id="1663778275239" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">back</span>.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you <span data-lm-id="1663778277577" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">set</span> down on the <span data-lm-id="1663778280282" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair. </p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»4″ data-title=»Alliteration»>
</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»4″ data-title=»Alliteration»>
Аллитерация
- Посмотрите, где появляется этот поэтический прием в поэме.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you <span data-lm-id="1663778345475" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">finds</span> it’s <span data-lm-id="1663778347743" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">kinder</span> hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1663778353319" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se</span> still <span data-lm-id="1663778350343" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">climbin</span>’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you <span data-lm-id="1663778345475" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">finds</span> it’s <span data-lm-id="1663778347743" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">kinder</span> hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1663778353319" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se</span> still <span data-lm-id="1663778350343" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">climbin</span>’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair. </p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»5″ data-title=»Assonance»>
</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»5″ data-title=»Assonance»>
Ассонанс
- Посмотрите, где появляется этот поэтический прием в поэме.
 </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">So boy, don’t you turn back.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Don’t you set down on the steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">’Cause you finds it’s kinder hard.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Don’t you fall now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">For I’se still goin’, honey,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se still climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">And life for me ain’t been no crystal stair.
</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">So boy, don’t you turn back.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Don’t you set down on the steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">’Cause you finds it’s kinder hard.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Don’t you fall now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">For I’se still goin’, honey,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se still climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span><span data-lm-id="1572471299683" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">And life for me ain’t been no crystal stair. </span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»7″ data-title=»Extended Metaphor»>
</span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»7″ data-title=»Extended Metaphor»>
Расширенная метафора
- Посмотрите, где появляется этот поэтический прием в поэме.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»9″ data-title=»Polysyndeton»>
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»9″ data-title=»Polysyndeton»>
Полисиндетон
-
Посмотрите, где появляется этот поэтический прием
в поэме.

 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, <span data-lm-id="1572634007881" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">don’t you turn back.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span><span data-lm-id="1572634010900" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Don’t you set down on the steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span><span data-lm-id="1572634014074" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Don’t you fall now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span><span data-lm-id="1572634017922" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">For I’se still goin’,</span> honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1572634021212" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se still climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, <span data-lm-id="1572634007881" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">don’t you turn back.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span><span data-lm-id="1572634010900" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Don’t you set down on the steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span><span data-lm-id="1572634014074" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">Don’t you fall now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span><span data-lm-id="1572634017922" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">For I’se still goin’,</span> honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1572634021212" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se still climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair. </p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»10″ data-title=»Anaphora»>
</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»10″ data-title=»Anaphora»>
Анафора
- Посмотрите, где появляется этот поэтический прием в поэме.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span><span data-lm-id="1572193350110" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">And life for me ain’t been no crystal stair.</span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»11″ data-title=»Refrain»>
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span><span data-lm-id="1572193350110" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">And life for me ain’t been no crystal stair.</span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Poetic Device» data-position=»11″ data-title=»Refrain»>
Рефрен
- Посмотрите, где появляется этот поэтический прием в поэме.
Словарь «От матери к сыну»
Выберите любое слово ниже, чтобы получить его определение в контексте стихотворения. Слова перечислены в том порядке, в котором они встречаются в стихотворении.
Слова перечислены в том порядке, в котором они встречаются в стихотворении.
- </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no <span data-lm-id="1572274864253" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">crystal stair</span>.</p>
» data-position=»1″ data-title=»Crystal Stair»>
Хрустальная лестница
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no <span data-lm-id="1572274864253" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">crystal stair</span>.</p>
» data-position=»1″ data-title=»Crystal Stair»>
Хрустальная лестница
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»2″ data-title=»Tacks»>
Прихватки
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in it,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And <span data-lm-id="1572275025457" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">splinters</span>,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And boards torn up,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the floor—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span>Bare.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»2″ data-title=»Tacks»>
Прихватки
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in it,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And <span data-lm-id="1572275025457" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">splinters</span>,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And boards torn up,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the floor—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span>Bare.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light. </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»3″ data-title=»Splinters»>
Занозы
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in it,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And splinters,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And <span data-lm-id="1572275117239" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">boards</span> torn up,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the floor—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span>Bare.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»3″ data-title=»Splinters»>
Занозы
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in it,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And splinters,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And <span data-lm-id="1572275117239" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">boards</span> torn up,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the floor—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span>Bare.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light. </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»4″ data-title=»Boards»>
Доски
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in it,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And splinters,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And boards torn up,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the floor—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span>Bare.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span><span data-lm-id="1572275648841" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se</span> been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»4″ data-title=»Boards»>
Доски
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in it,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And splinters,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And boards torn up,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the floor—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span>Bare.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span><span data-lm-id="1572275648841" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se</span> been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light. </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For <span data-lm-id="1572275653805" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se</span> still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1572275657183" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se</span> still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For <span data-lm-id="1572275653805" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se</span> still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1572275657183" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">I’se</span> still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair. </p>
» data-position=»5″ data-title=»I’se»>
я вижу
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been <span data-lm-id="1572275750585" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">a-climbin’</span> on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.
</p>
» data-position=»5″ data-title=»I’se»>
я вижу
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been <span data-lm-id="1572275750585" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">a-climbin’</span> on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard. </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»6″ data-title=»A-Climbin'»>
А-Восхождение
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ <span data-lm-id="1572276014952" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">landin’s</span>,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»6″ data-title=»A-Climbin'»>
А-Восхождение
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ <span data-lm-id="1572276014952" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">landin’s</span>,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard. </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»7″ data-title=»Landin’s»>
Лэндин
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s <span data-lm-id="1572276045434" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">kinder</span> hard.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»7″ data-title=»Landin’s»>
Лэндин
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s <span data-lm-id="1572276045434" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">kinder</span> hard. </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»8″ data-title=»Kinder»>
Киндер
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-position=»8″ data-title=»Kinder»>
Киндер
- </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in it,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And splinters,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And boards torn up,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the floor—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span>Bare.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.
- Посмотрите, где встречается это словарное слово в поэме.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no <span data-lm-id="1572274864253" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">crystal stair</span>.
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no <span data-lm-id="1572274864253" data-color="7" class="poem-inline__lm—content-highlight">crystal stair</span>. </p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-itemized=»» data-modal-title=»Vocabulary» data-position=»1″ data-title=»Crystal Stair»>
</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-itemized=»» data-modal-title=»Vocabulary» data-position=»1″ data-title=»Crystal Stair»>
Форма, метр и схема рифмовки «От матери к сыну»
- </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">It’s had tacks in it,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">And splinters,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">And boards torn up,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">And places with no carpet on the floor—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">Bare.
 </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">But all the time</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">I’se been a-climbin’ on,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">And reachin’ landin’s,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">And turnin’ corners,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">And sometimes goin’ in the dark</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">Where there ain’t been no light.
</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">But all the time</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">I’se been a-climbin’ on,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">And reachin’ landin’s,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">And turnin’ corners,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">And sometimes goin’ in the dark</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">Where there ain’t been no light. </span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">So boy, don’t you turn back.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">Don’t you set down on the steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">’Cause you finds it’s kinder hard.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">Don’t you fall now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">For I’se still goin’, honey,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">I’se still climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1" data-lm-lot="" style="">And life for me ain’t been no crystal stair.
</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">So boy, don’t you turn back.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">Don’t you set down on the steps</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">’Cause you finds it’s kinder hard.</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">Don’t you fall now—</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">For I’se still goin’, honey,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1">I’se still climbin’,</span></p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span><span data-lm-id="1572277047387" data-selection-id="selection-1572277038296" class="poem-inline__lm—content-structure" data-color="1" data-lm-lot="" style="">And life for me ain’t been no crystal stair. </span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Form»>
</span></p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Form»>
Форма
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true»>
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true»>
Счетчик
</p> <p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p> <p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p> <p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p> <p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p> <p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p> <p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.</p> <p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p> <p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p> <p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard. </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Rhyme Scheme»>
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true» data-modal-title=»Rhyme Scheme»>
Схема рифм
Динамик «Мать сыну»
- </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in it,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And splinters,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And boards torn up,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the floor—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span>Bare.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true»>
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true»>
Настройка «От матери к сыну»
- </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in it,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And splinters,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And boards torn up,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the floor—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span>Bare.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true»>
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true»>
Литературно-исторический контекст «Мать к сыну»
- </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">3</span>It’s had tacks in it,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">4</span>And splinters,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">5</span>And boards torn up,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">6</span>And places with no carpet on the floor—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">7</span>Bare.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">8</span>But all the time</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">9</span>I’se been a-climbin’ on,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">10</span>And reachin’ landin’s,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">11</span>And turnin’ corners,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">12</span>And sometimes goin’ in the dark</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">13</span>Where there ain’t been no light.
 </p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true»>
</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">14</span>So boy, don’t you turn back.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">15</span>Don’t you set down on the steps</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">16</span>’Cause you finds it’s kinder hard.</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">17</span>Don’t you fall now—</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">18</span>For I’se still goin’, honey,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">19</span>I’se still climbin’,</p>
<p><span class="poem-inline__line-number">20</span>And life for me ain’t been no crystal stair.</p>
» data-highlight-when-focused=»true»>
Дополнительные ресурсы «От матери к сыну»
-
Внешние ресурсы
-
В Гарлемский Ренессанс — Подробная история Гарлемского Возрождения — со ссылками на других писателей и тексты Гарлемского Возрождения — от Poetry Foundation.

-
Усталый блюз — Статья Академии американских поэтов об «Утомленном блюзе», первом сборнике стихов Лэнгстона Хьюза, в котором собрана «От матери к сыну».
-
История жизни Лэнгстона Хьюза — Подробная биография от Poetry Foundation.
-
Хьюз и Гарлемское Возрождение — Статья о влиянии Лэнгстона Хьюза на Гарлемское Возрождение.
-
Стихотворение, прочитанное вслух — Актриса Виола Дэвис и поэт Лэнгстон Хьюз декламируют «Мать сыну».
-
-
Литчарты других стихотворений Лэнгстона Хьюза
(прочитайте полное определение и объяснение с примерами)
1Ну, сынок, я тебе скажу:
2Жизнь для меня не была хрустальной лестницей.
3 В нем были гвозди,
4 И осколки,
5 И доски порваны,
6 И места без ковра на полу—
7Голые.
8 Но все время
9 Я карабкался,
10 И достигал приземления,
11 И поворачивал за угол,
12И иногда ходить в темноте
13Где не было света.
14Так что, мальчик, не поворачивайся назад.
15Не садитесь на ступеньки
16Потому что вам будет тяжелее.
17Теперь ты не упади —
18Потому что я все еще иду, милый,
19Я все еще поднимаюсь,
20И жизнь для меня не была хрустальной лестницей.
Строки 3-4
Собирается до величия, как масляная жижа Измельченная
Советы по отношениям между матерью и сыном — советы для родителей на сайте WomansDay.com
Команда разработчиков медиаплатформ
Матери занимают почетное место в большинстве обществ, и это справедливо, учитывая то положительное влияние, которое они могут оказывать на жизнь своего ребенка, особенно мальчика. Поскольку связь между матерью и сыном является первой и наиболее важной женской связью молодого человека, важно понять, как определенные поведенческие привычки могут перерасти в положительные или отрицательные качества в более позднем возрасте. Читайте дальше, чтобы узнать о девяти вещах, которые мамы могут сделать, чтобы их мальчики выросли лучшими мужчинами, какими они могут быть.
Читайте дальше, чтобы узнать о девяти вещах, которые мамы могут сделать, чтобы их мальчики выросли лучшими мужчинами, какими они могут быть.
Урок 1: Отбросьте предположения
Многие женщины поддерживают «Алиби парня». Обычно это приговор, который вызывается после переживания небрежности, ограничения или разочарования, приписываемых обычному или ожидаемому мужскому поведению. Это звучит примерно так: «Ну чего можно ожидать, он же просто парень». Возможно, самое радикальное, что мать может сделать для своего сына и для женщин, которые придут после нее, — это отвергнуть это представление. Ограничение не должно быть лозунгом мужественности; когда ваш сын делает что-то, что попахивает такой «мальчишкой», не поддавайтесь — требуйте больше или лучше. Возможно, в данный момент это не принесет вам наград, но от этого зависит качество и подлинность его жизни, а также людей, на которых эта жизнь влияет.
Урок 2: Научите его уважать женщин
Звучит старомодно, но очень феминистски. Если женщины когда-либо хотят обрести истинное равенство, в первую очередь необходимо добиться истинного уважения. Вот где рыцарство, если оно мертво, может воскреснуть. Попросите сына встать, когда его представляют женщине; потребовать, чтобы он написал благодарственное письмо тете за подаренный подарок; не позволяйте ему перебивать, когда говорит его сестра — эти маленькие жесты говорят об уважении к женщинам, что помогает укрепить пожизненную привычку мужчин рассматривать их как равных.
Если женщины когда-либо хотят обрести истинное равенство, в первую очередь необходимо добиться истинного уважения. Вот где рыцарство, если оно мертво, может воскреснуть. Попросите сына встать, когда его представляют женщине; потребовать, чтобы он написал благодарственное письмо тете за подаренный подарок; не позволяйте ему перебивать, когда говорит его сестра — эти маленькие жесты говорят об уважении к женщинам, что помогает укрепить пожизненную привычку мужчин рассматривать их как равных.
Урок 3: Модель эмоционального интеллекта
«Женщины находятся в привилегированном положении, когда речь заходит об эмоциональном интеллекте», — говорит Ричард Рид, доктор философии, специалист по гендерным вопросам и заведующий кафедрой социологии и антропологии в Университете Тринити в Сан-Антонио, штат Техас. «Их научили настраиваться на свои чувства и выражать их. Мужчины не выросли на таком обучении». Доктор Рид призывает матерей с самого начала спрашивать своих сыновей об их эмоциях и чувствах. Таким образом, сын «вырастает молодым человеком, наделенным полномочиями, потому что он понимает уязвимость».
Таким образом, сын «вырастает молодым человеком, наделенным полномочиями, потому что он понимает уязвимость».
Урок 4: Развенчание мифа о непобедимости
Исследования Baby X, проведенные в 70-х годах, показали, что когда ребенок рождается, мы адаптируем свое поведение в зависимости от пола. Это означает, что многие матери часто соглашаются с моделью мужественности «мальчики не плачут» и «это не очень больно», которой их, возможно, учили в детстве. Доктор Рид выдвигает убедительный аргумент против этого: «Мы должны признать, что все мужчины чувствуют боль и уязвимость». Веря в обратное, говорит он, мы не делаем мальчиков более мужественными, мы только «просим их запереться». Это опасно, потому что, «если ребенок не признает боль, ему будет очень трудно развить эмоциональный интеллект или сделать его способным к сопереживанию во взрослом возрасте. Нам нужно воспитывать мужчин, у которых есть эмпатические отношения с другими».
Урок 5: Забудьте о гендерных ролях
Со всей этой шумихой о мальчиках и девочках, мужчинах и женщинах сам индивидуум может исчезнуть. Иногда лучше оставить гендерный анализ позади. Ваш сын больше, чем просто мальчик, и нет двух одинаковых мальчиков. Его мужественность диктует, что ваше воспитание игнорирует эти главные истины. Исключая гендерное восприятие из уравнения и уважая приверженность вашего сына любой страсти или цели, матери формируют сыновей, которые больше не обременены бессмысленными суждениями мужественности.
Иногда лучше оставить гендерный анализ позади. Ваш сын больше, чем просто мальчик, и нет двух одинаковых мальчиков. Его мужественность диктует, что ваше воспитание игнорирует эти главные истины. Исключая гендерное восприятие из уравнения и уважая приверженность вашего сына любой страсти или цели, матери формируют сыновей, которые больше не обременены бессмысленными суждениями мужественности.
Урок 6: Освободите место для отцовства
Такие качества, как грубость, соперничество и атлетизм, могут естественным образом проявиться как часть личности вашего сына, и очень важно дать возможность мужу направлять его в этих направлениях. На самом деле исследования показывают, что в других культурах после кормления матери и отцы проводят равное количество времени в физическом контакте со своими сыновьями. Что это предполагает? Для отцов быть воспитателями не только естественно, но и необходимо. «Существует стереотип о том, что мужчины боятся быть эмоциональными с сыновьями, — говорит доктор Рид, — но если убрать женщин из общей картины, мужчины на самом деле гораздо больше заботятся друг о друге». Поощряйте вашего мужа проводить больше времени с вашим сыном, а не только качественно, но и отдельно. Это поможет вашему сыну испытать редкий дар, способный изменить его жизнь: позитивную, приносящую удовлетворение мужественность.
Поощряйте вашего мужа проводить больше времени с вашим сыном, а не только качественно, но и отдельно. Это поможет вашему сыну испытать редкий дар, способный изменить его жизнь: позитивную, приносящую удовлетворение мужественность.
Урок 7: Прославляйте служение
Некоторые исследования показали, что мужчины чаще, чем женщины, становятся нарциссами, и что такой нарциссизм часто сопровождается эгоизмом, чувством собственного достоинства и отсутствием сострадания к другим — тремя качествами, которые могут помешать здоровому образу жизни. , щедрые и равные связи с партнерами и людьми. Как отвратить сына от таких наклонностей? Одно слово: сервис. Обучение вашего сына расширению прав и возможностей других, будь то поощрение волонтерства или ожидание его помощи с молодыми или пожилыми членами семьи, является мощным сдерживающим и уравновешивающим фактором. В нем также рассматривается распространенная жалоба многих женщин на мужчин: что, будучи мальчиками, они не научились быть интуитивными и поэтому не используют жесты, которые признают и успокаивают определенные эмоции.
Урок 8: Соблюдайте границы
В некоторых семьях мамы могут обращаться к своим сыновьям за подтверждением, которое они не получают от своих мужей. Это не только несправедливо по отношению к сыну, но и создает модель, в которой мальчики ценятся выше девочек. Остерегайтесь несправедливых ожиданий, которые могут превратиться в проблематичный фаворитизм.
Урок 9: Оставайтесь направляющей силой
Для старших сыновей, особенно для тех, кто подумывает об отцовстве, мать остается важным учителем. Как так? Сталкиваясь с родительством, мужчины сталкиваются со своим собственным детством и вопросами, от которых они могут быть ограждены: что значит быть хорошим примером и хорошим мужем? Как совместить, будучи союзником ребенка, оставаться взрослым, в котором нуждается ребенок? Отцовство может быть временем возвращения домой для мужчин; то, что их матери поделятся своей мудростью и опытом, снова приведет к тому, что мужчины станут лучше.
6 частей для составления идеального тоста
На этой свадьбе у вас есть одна огромная обязанность — произнести памятную речь матери жениха. Как вы пишете речь матери жениха, которая чествует вашего сына, приветствует новую семью в вашей и уравновешивает юмор с сентиментальными чувствами? Не бойся, я здесь, чтобы помочь.
Как профессиональный свадебный обет и составитель речей, я расскажу вам о ключевых аспектах создания впечатляющей речи матери жениха.
Вот схема, которую я создал, чтобы помочь вам написать свою речь:
-
Представьте себя
-
Спасибо гостям
-
Разговор о своем сыне
-
Разговор о своей новой дочери или зрелище
-
Объясните, почему их брак счастлив
-
.
Завершите с желанием для пары
Это может показаться ошеломляющим, но не волнуйтесь — я более подробно опишу, что означает каждый раздел. Когда вы будете следовать этому формату, ваша речь будет плавной и будет затрагивать все ключевые аспекты того, что должна включать речь матери жениха.
Когда вы будете следовать этому формату, ваша речь будет плавной и будет затрагивать все ключевые аспекты того, что должна включать речь матери жениха.
Представьтесь
Хотя ваша роль на этой свадьбе может показаться очевидной, не все уже знают, кто вы такой. Начните свою речь, заявив, кто вы по отношению к паре.
Примеры:
-
Всем добрый вечер. Меня зовут Марта и я мама жениха.
-
Всем привет! Я Марта, самая гордая мать любого жениха, который когда-либо был.
-
Меня зовут Марта, мать жениха, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня здесь.
Это готовит почву для вашей речи, констатируя четкий факт. Все поймут, что сейчас произойдет — мать жениха будет произносить речь.
Это также хороший способ начать свое выступление, если вы боитесь публичных выступлений. Когда мы боимся выступать перед аудиторией, полной людей, может помочь сказать что-нибудь «простое».
Другими словами, вы можете чувствовать себя уверенно, когда называете свое имя и родство с женихом, а не пытаетесь объяснить более сложную идею. Это сразу успокоит ваши нервы и позволит звучать уверенно с первых же тактов вашей матери жениха.
Поблагодарите гостей
Прежде чем вы начнете рассказывать о своем сыне и его новой женитьбе, обязательно поблагодарите своих гостей за участие в мероприятии.
Примеры:
-
Спасибо, что помогли мне отпраздновать свадьбу моего сына Джейсона и его новой невесты Донны.
-
Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы сегодня здесь. Это такой особенный случай, и он стал более значимым благодаря тому, что каждый из вас собрался сегодня с нами, чтобы отпраздновать.
-
Спасибо, что поделились сегодня любовью Джейсона и Донны.
Расскажите о своем сыне
Далее вам нужно сосредоточиться на нашем сыне. О, с чего же начать, когда ты пишешь о своем сыне в день его свадьбы! Это может быть самой подавляющей частью. Чтобы определить, на чем сосредоточиться, начните с мозгового штурма, используя мой метод «ручка на бумаге».
О, с чего же начать, когда ты пишешь о своем сыне в день его свадьбы! Это может быть самой подавляющей частью. Чтобы определить, на чем сосредоточиться, начните с мозгового штурма, используя мой метод «ручка на бумаге».
Начните с установки таймера. Я предлагаю от 15 до 30 минут. Когда вы устанавливаете ограничение по времени, у вас будет достаточно времени, чтобы записать самое важное, не вдаваясь в детали, которые не нужны для вашего выступления.
Когда таймер запустится, поднесите ручку к бумаге и начните писать. Напишите о любых мыслях, чувствах или воспоминаниях, которые приходят вам на ум, когда вы думаете о своем сыне. Главное не отрывать ручку от бумаги. Просто продолжайте писать. Продолжайте писать, даже если у вас нет четкой мысли для расшифровки. Когда вы сделаете это, вы в конечном итоге подключитесь к своему подсознанию. Именно тогда начинают течь настоящие творческие соки. Вы можете записывать идеи, которые никогда бы не рассмотрели.
Завершив мозговой штурм, выделите или подчеркните мысли, которые вы хотели бы использовать в речи матери жениха. Когда вы определили темы, вы отполируете эти концепции, расширив каждую мысль и связав ее с идеей брака.
Когда вы определили темы, вы отполируете эти концепции, расширив каждую мысль и связав ее с идеей брака.
Давайте рассмотрим пример, чтобы увидеть, как это сделать в речи матери жениха.
Мозговой штурм Примечание:
Мне нравится сострадательное сердце моего сына.
Расширение концепции:
Когда Джейсону было шесть лет, все его одноклассники были приглашены в дом на вечеринку по случаю его дня рождения. Большинство из них играли вместе, за исключением одного мальчика, который сидел один. Я был свидетелем того, как мой шестилетний сын отошел от кучи новых подарков, которые он только что открыл, чтобы подойти к этому мальчику. Джейсон нес свою новую фигурку черепашек-ниндзя. Джейсон передал Донателло мальчику и сказал: «Вот, это может быть твоим. Давай поиграем.»
Свяжите это с женитьбой:
Я был свидетелем того, как мой сын проявлял сострадание с тех пор, как он был еще маленьким мальчиком, и до тех пор, пока он не стал удивительным человеком, которым он является сегодня. Его доброе и заботливое сердце будет служить его браку с этого дня.
Его доброе и заботливое сердце будет служить его браку с этого дня.
На примере видно, что вы используете конкретную историю, чтобы показать выбранную вами идею или черту — его сострадание. Затем вы завершаете историю, возвращая всех в настоящий момент и напоминая им, почему все собрались вместе — отпраздновать новый брак.
Расскажите о своей новой дочери или зяте
В то время как основная связь между вами и вашим сыном, хорошая речь матери жениха также упоминает ваши мысли о его новой жене или муже.
Вы можете выполнить то же упражнение мозгового штурма, что и ранее, и придумать материал для этого раздела. Как только у вас появится черта характера, на которой вы хотели бы сосредоточиться, превратите ее в историю и в конце подробно объясните, почему вы счастливы, что этот человек теперь является частью вашей семьи.
Давайте посмотрим на другой пример.
Черта характера:
Партнер вашего сына заботлив.
История для демонстрации Черта:
Когда я впервые встретил Донну, она пришла ко мне домой, и меня встретили с букетом фиолетовой сирени — моего любимого цветка. На протяжении многих лет я был свидетелем того, как Донна помнит мелочи, которые важны для людей, которых она любит, таких как мой сын, и она действует на эти жесты с чистой любовью.
На протяжении многих лет я был свидетелем того, как Донна помнит мелочи, которые важны для людей, которых она любит, таких как мой сын, и она действует на эти жесты с чистой любовью.
Завершите сообщение Почему вы счастливы:
Когда я думаю об этих совершенно самоотверженных и вдумчивых жестах, которые регулярно делает Донна, мое сердце согревается от осознания того, что моя семья будет окружена такой любовью, когда она присоединится к нашей семье сегодня.
Объясните, почему их брак делает вас счастливым
Ключ к сильной речи матери жениха — коснуться того, почему их брак приносит вам радость. Вспомните, когда вы впервые встретили партнера своего сына. Ваше мнение? Как вы себя чувствуете?
Может быть, вы были вне себя от радости, и у вас есть масса воспоминаний, которые вы можете использовать в качестве материала для своей речи.
Но что, если первое впечатление не произвело на вас впечатления или вы до сих пор не уверены в том, на ком женится ваш сын? Вам нужно найти серебряную подкладку. Какое единственное искупительное качество делает вас счастливыми, или какой поступок, свидетелем которого стала будущая супруга вашего сына, вас утешил?
Какое единственное искупительное качество делает вас счастливыми, или какой поступок, свидетелем которого стала будущая супруга вашего сына, вас утешил?
Сосредоточьтесь на этих воспоминаниях и используйте их в своей речи матери жениха.
Давайте рассмотрим несколько примеров.
-
Как мать я всегда хотела для своего сына, чтобы он был счастлив. Видеть, каким счастливым сделала его Донна, — это величайший подарок, который мать может попросить для своего сына.
-
Супружеская жизнь двух людей поддерживает друг друга в радостные и трудные периоды жизни. Мне так радостно знать, что Джейсон и Донна будут поддержкой друг для друга.
Завершите пожеланием для пары
Наконец, завершите речь матери жениха пожеланием для молодоженов. Это может быть простое предложение, которое подытожит ваши чувства и побудит гостей поднять бокалы, чтобы произнести тост за пару.
Вот несколько примеров.
-
Джейсон и Донна… пусть вы продолжаете любить, расти и смеяться вместе с этого дня.
-
Поднимем бокалы за Джейсона и Донну. Сегодня мы празднуем вашу свадьбу, и пусть вы продолжаете праздновать свой брак с этого дня.
-
Я желаю вам обоим всего счастья, которое может предложить жизнь, и моя любовь всегда с вами обоими.
Что делать, если вы все еще пытаетесь написать речь матери жениха?
Вы можете получить помощь специалиста. В Wedding Words я работаю с влюбленными парами, чтобы написать свои клятвы, и ошеломленными матерями жениха, чтобы написать свои речи.
Подключаемся. Я хотел бы услышать о предстоящей свадьбе и вместе написать красивую речь для матери жениха, которую вы будете с гордостью и уверенностью произносить своему сыну в день его свадьбы.
Чтобы начать, просто заполните форму ниже.
Признание потребности вашего сына в уважении (Часть 1 из 2)
Предварительный просмотр:
Доктор Эмерсон Эггерихс : Так что матери просто нужно отступить. Есть ли какое-нибудь словарное слово, которое я использую, чтобы заставить моего сына думать, что я не уважаю его, что я презираю его, что я презираю его таким, какой он есть, что я нахожу его неприемлемым как человеческое существо, что он меньше, чем должен быть?
Есть ли какое-нибудь словарное слово, которое я использую, чтобы заставить моего сына думать, что я не уважаю его, что я презираю его, что я презираю его таким, какой он есть, что я нахожу его неприемлемым как человеческое существо, что он меньше, чем должен быть?
Конец предварительного просмотра
Джим: Ага.
Д-р Эггерихс: Гм, и это те слова, от которых нам нужно воздержаться.
Джон Фуллер: Такое прекрасное понимание от доктора Эмерсона Эггерикса. Сегодня он у нас в гостях на программе «В центре внимания семья», и у него есть несколько полезных советов для мам, которые помогут укрепить ваши отношения с сыном. Ваш ведущий — президент Focus и писатель Джим Дейли, а я — Джон Фуллер.
Джим Дейли: О, Джон, вот заголовок для всех нас. Э-э, легко забыть, что на самом деле ты воспитываешь мужчину, а не мальчика, и что когда-нибудь он уйдет из дома и начнет свою жизнь, вот в чем дело. Как отец двух взрослых сыновей, я знаю, как быстро проходит время, и они начинают принимать решения самостоятельно. И сегодня мы подготовили эфир специально для мам. Мы хотим обратиться к вашему сердцу и дать совет, чтобы помочь вам воспитать ваших сыновей такими мужчинами, которых вы отчаянно хотите видеть. Э-э, мы возвращаемся к записанной беседе с Эмерсоном Эггериксом о матерях и сыновьях, которая в прошлом оказала большую поддержку и наставление нашим слушателям.
Как отец двух взрослых сыновей, я знаю, как быстро проходит время, и они начинают принимать решения самостоятельно. И сегодня мы подготовили эфир специально для мам. Мы хотим обратиться к вашему сердцу и дать совет, чтобы помочь вам воспитать ваших сыновей такими мужчинами, которых вы отчаянно хотите видеть. Э-э, мы возвращаемся к записанной беседе с Эмерсоном Эггериксом о матерях и сыновьях, которая в прошлом оказала большую поддержку и наставление нашим слушателям.
Джон: И я знаю, что сегодня Эмерсон снова поможет. Теперь он популярный гость здесь, в Focus on the Family, всемирно признанный эксперт по отношениям между мужчинами и женщинами. Он выступает на конференциях со своей женой Сарой по всему миру и является автором ряда книг, в том числе «Мать и сын: эффект уважения ». Этот разговор был записан недавно в нашей студии, давайте послушаем.
Джим: Эмерсон, здорово, что вы вернулись в «Фокус на семье».
Д-р Эггерихс: Я с нетерпением ждал этого, Джим, и спасибо, Джон, да.
Джим: Вы действительно одарены в том, чтобы говорить прямо к сердцу людей, особенно в области брака, очевидно. Любовь и уважение оказали действительно сильное влияние буквально на миллионы людей. И теперь вы применяете такие принципы к воспитанию детей, что я считаю идеальным. Почему вы перенесли это сообщение о том, как вы относитесь в браке, к родительским отношениям?
Д-р Эггерихс: Есть два уровня этого. Я написал книгу «Любовь и уважение в семье » и, гм, глядя на все в Священных Писаниях, гм, о воспитании детей, я имел честь изучать Библию по 30 часов в неделю в течение почти 20 лет в качестве старшего пастора церковь. Так что это дало мне много времени на размышления, а потом, конечно, академик склонился, глядя на то, что говорят исследования. Так что я ждал, хотя на тему воспитания, пока мои дети не выросли. Джонатан, Дэвид и Джой уже взрослые и… и ушли из дома, и я ждал этого. Но эта более поздняя книга Мать и сын , это была Сара, моя жена, а также сотни женщин, пришедших на нашу брачную конференцию «Любовь и уважение», которые начали применять эти принципы к своим мальчикам и начали писать мне, Джиму, по электронной почте и рассказывать мне, что произошло в сердце мальчика, и чувство связи, которое они начали испытывать, когда они начали применять то, что я называю разговором об уважении.
Джим: Э-э, Эмерсон, вы прекрасно отдаете должное Саре, вашей жене, и тому, как вы наблюдали за ее общением с двумя вашими сыновьями. И расскажите о том наблюдении, которое было у вас как у ее мужа и отца ее мальчиков.
Д-р Эггерихс: Ну, и Сара как бы подтолкнула меня к этому, когда мы с ней проводили конференции о любви и уважении к браку. Она начала понимать, знаете, это действительно относится к сыну. Она следила там как за матерью; Я думал о браке. Она сказала: «Знаешь что? Нам нужно поднять этот вопрос на ранней стадии конференции и сказать, как вы, матери, хотите, чтобы ваша будущая невестка обращалась с вашим драгоценным малышом?» Потому что они совершенно иначе относятся к своему мальчику, чем к своему мужу в тот момент времени. И поэтому Сара действительно подтолкнула меня к этому. И так как я начал оценивать это, эта книга вышла из того, что матери начали писать нам. Но Сара сказала две вещи, о которых я очень быстро сказал в начале книги. Она сказала: «Если бы я знала эту информацию, когда мои сыновья были маленькими, — Джонатан и Дэвид, два мальчика, — сказала она, — им сейчас за тридцать, я была бы лучшей матерью». И она призвала матерей серьезно подумать об этом, потому что каждая мать хочет стать лучше, и она очень глубоко чувствует, что если бы она знала об этом в их ранние годы, это могло бы иметь огромное значение. Но затем она также поощряет матерей: «Мать никогда не бывает слишком рано и никогда не поздно применять это послание уважения».
Она сказала: «Если бы я знала эту информацию, когда мои сыновья были маленькими, — Джонатан и Дэвид, два мальчика, — сказала она, — им сейчас за тридцать, я была бы лучшей матерью». И она призвала матерей серьезно подумать об этом, потому что каждая мать хочет стать лучше, и она очень глубоко чувствует, что если бы она знала об этом в их ранние годы, это могло бы иметь огромное значение. Но затем она также поощряет матерей: «Мать никогда не бывает слишком рано и никогда не поздно применять это послание уважения».
Джим: Что ж, давайте освежим или познакомим с этой концепцией слушателей, которые, возможно, не смотрели эти передачи «Любовь и уважение» или не читали вашу книгу на эту тему. Поговорите об общем принципе любви и уважения, о том, к чему вы клоните, когда речь заходит о гендере и о том, что нам нужно.
Д-р Эггерихс: Правильно. Что ж, Вашингтонский университет изучал 2000 пар в течение 20 лет, и они сказали: «Теперь мы знаем два ключевых компонента успешного брака. Когда эти два ингредиента присутствуют, брак успешен, когда их нет, брак терпит неудачу». Многие из нас думают, что если бы у нас не было проблем с деньгами, проблем со свекровью, проблем со здоровьем, проблем, связанных с работой, этих стрессоров, если бы мы могли устранить их, у нас были бы счастливые отношения. Но они обнаружили, что именно наше отношение друг к другу в эти конфликтные моменты действительно является ключом. Поэтому, если я сталкиваюсь с враждебным или презрительным отношением к духу другого человека, именно тогда они сдуваются, я наступаю на их воздушный шланг. Что ж, меня заинтриговало, что в Ефесянам 5:33 сказано: мужья, любите своих жен и жен, уважайте своих мужей. И динамика любви и уважения, в первой части этого стиха не так уж много споров. Но во второй части женщины скажут: «Доктор. Эмерсон, я не испытываю никакого уважения к своему мужу. Он не выше меня, я не ниже его. Я не хочу лицемерить и делать то, чего я не чувствую, он этого не заслужил, он этого не заслуживает.
Когда эти два ингредиента присутствуют, брак успешен, когда их нет, брак терпит неудачу». Многие из нас думают, что если бы у нас не было проблем с деньгами, проблем со свекровью, проблем со здоровьем, проблем, связанных с работой, этих стрессоров, если бы мы могли устранить их, у нас были бы счастливые отношения. Но они обнаружили, что именно наше отношение друг к другу в эти конфликтные моменты действительно является ключом. Поэтому, если я сталкиваюсь с враждебным или презрительным отношением к духу другого человека, именно тогда они сдуваются, я наступаю на их воздушный шланг. Что ж, меня заинтриговало, что в Ефесянам 5:33 сказано: мужья, любите своих жен и жен, уважайте своих мужей. И динамика любви и уважения, в первой части этого стиха не так уж много споров. Но во второй части женщины скажут: «Доктор. Эмерсон, я не испытываю никакого уважения к своему мужу. Он не выше меня, я не ниже его. Я не хочу лицемерить и делать то, чего я не чувствую, он этого не заслужил, он этого не заслуживает. Я не собираюсь давать ему лицензию делать то, что он хочет. Я не собираюсь возвращаться к мужскому патриархату и бояться мужского доминирования».
Я не собираюсь давать ему лицензию делать то, что он хочет. Я не собираюсь возвращаться к мужскому патриархату и бояться мужского доминирования».
Джим: (смеется).
Д-р Эггерихс: Я не собираюсь подвергать себя эмоциональному насилию, чтобы потерять чувство своей идентичности или себя или отбросить команду феминисток на 50 лет назад. Но помимо этих вещей, я действительно открыт для того, чтобы услышать, что вы можете сказать по этому поводу. (Смех).
Джим: Тяжелое вступление.
Д-р Эггерихс: Ну, это то, с чем мы столкнулись.
Джим: Ага.
Доктор Эггерихс: Вы видите разрыв между тем, что женщины думают о чести и уважении, и тем, что вы и я, мужчины, чувствуем, мы служим и умираем за честь. Мы не считаем это нарциссическим. Мы чтим друг друга и умираем друг за друга. Но когда вы говорите об уважении к мужчине, то та мантра, которую я только что произнесла, — это то, что чувствуют женщины. И совсем не парятся по этому поводу. Женщины боятся, что в этом процессе их не будут любить, что они станут второсортными и второсортными. Но как только мы начинаем раскрывать силу проявления уважения к духу мужчины, неуважения к его плохому поведению, когда вы сталкиваетесь с уважением к духу человека, ни один муж не испытывает в своем сердце нежного чувства любви и привязанности к мужчине. жена, как он думает, презирает его как человека не больше, чем женщина отреагирует на мужа, который суров и зол. У всех нас есть определенные уязвимые места, но мы как бы убрали мужские потребности с экрана радара. И поэтому мы возвращаемся к этому, чтобы сказать, что если вы хотите мотивировать своего мужа, вы делаете это, удовлетворяя его потребности, особенно во время конфликта, и смотрите, что происходит. Он свяжется с вами; он будет двигаться к вам, а не отступать. 85% тех, кто отказывается и уходит, — мужчины. И он перестанет это делать. Он останется с вами, потому что думает, что вы используете эту тему как возможность послать ему сообщение о том, что вам не нравится, какой он человек.
И совсем не парятся по этому поводу. Женщины боятся, что в этом процессе их не будут любить, что они станут второсортными и второсортными. Но как только мы начинаем раскрывать силу проявления уважения к духу мужчины, неуважения к его плохому поведению, когда вы сталкиваетесь с уважением к духу человека, ни один муж не испытывает в своем сердце нежного чувства любви и привязанности к мужчине. жена, как он думает, презирает его как человека не больше, чем женщина отреагирует на мужа, который суров и зол. У всех нас есть определенные уязвимые места, но мы как бы убрали мужские потребности с экрана радара. И поэтому мы возвращаемся к этому, чтобы сказать, что если вы хотите мотивировать своего мужа, вы делаете это, удовлетворяя его потребности, особенно во время конфликта, и смотрите, что происходит. Он свяжется с вами; он будет двигаться к вам, а не отступать. 85% тех, кто отказывается и уходит, — мужчины. И он перестанет это делать. Он останется с вами, потому что думает, что вы используете эту тему как возможность послать ему сообщение о том, что вам не нравится, какой он человек. И эти принципы, эти жены, Джим, стали применять к своим мальчикам. И вместо того, чтобы эти мальчики отстранялись, отгораживались и просто закрывались, мальчики продолжали заниматься. На самом деле они смотрели на свою мать. Они действительно отвечали. Они были на самом деле мягкими в этом ответе, и матери были поражены этим.
И эти принципы, эти жены, Джим, стали применять к своим мальчикам. И вместо того, чтобы эти мальчики отстранялись, отгораживались и просто закрывались, мальчики продолжали заниматься. На самом деле они смотрели на свою мать. Они действительно отвечали. Они были на самом деле мягкими в этом ответе, и матери были поражены этим.
Джим: Как это меняет ваши отношения? И тогда мы собираемся заняться этим очень конкретно. Но на высшем уровне, когда мама, э-э, оказывает этому сыну такое уважение, что достигается? Как такой ответ? На что это похоже?
Д-р Эггерихс: Что ж, я определяю это как положительное отношение к духу вашего мальчика, когда вы злитесь на него. И одна из вещей, которые я хочу, чтобы матери знали, это не стыдиться, когда они слушают это, потому что матери сразу же начинают думать о тех моментах, когда они переступили черту, и я хочу, чтобы они просто расслабились здесь. Это просто понимание. В дополнение к вашей любви, я хочу, чтобы вы подумали о некоторых словарных словах, которые могут смягчить его, особенно когда вы пытаетесь достучаться до него. Но с точки зрения вопроса, который вы задаете, это положительное отношение к его духу. Видите, жесты презрения, которые изучает Вашингтонский университет, которые проявляют женщины, ее глаза темнеют, лицо становится кислым, рука на бедре, ругающий палец, вздох, закатывание глаз, голова запрокидывается назад, и когда эстроген брыкается в, выбор слова презрения невероятен. Женщины будут драться словами. Хорошо. Но я- я говорю… вы знаете, вы неуважительно говорите со своим мужем? Да, но он должен знать, что я не это имел в виду. я остановлюсь на полуслове; он должен знать, что я этого не делал. И в унисон все женщины говорят: «Серьезно», я не это имела в виду. И матери не имеют в виду своих мальчиков, но то, как этот мальчик отфильтровывает маму, использует эту тему, чтобы послать мне сообщение о том, что ей не нравится, кто я, что она не уважает меня. , и она находит меня неприемлемым. И я могу привести иллюстрацию того, как мать противостоит своей дочери-подростку однажды ночью, а следующей ночью точно так же противостоит своему сыну-подростку, и покажу вам, почему здесь есть огромная разница.
Но с точки зрения вопроса, который вы задаете, это положительное отношение к его духу. Видите, жесты презрения, которые изучает Вашингтонский университет, которые проявляют женщины, ее глаза темнеют, лицо становится кислым, рука на бедре, ругающий палец, вздох, закатывание глаз, голова запрокидывается назад, и когда эстроген брыкается в, выбор слова презрения невероятен. Женщины будут драться словами. Хорошо. Но я- я говорю… вы знаете, вы неуважительно говорите со своим мужем? Да, но он должен знать, что я не это имел в виду. я остановлюсь на полуслове; он должен знать, что я этого не делал. И в унисон все женщины говорят: «Серьезно», я не это имела в виду. И матери не имеют в виду своих мальчиков, но то, как этот мальчик отфильтровывает маму, использует эту тему, чтобы послать мне сообщение о том, что ей не нравится, кто я, что она не уважает меня. , и она находит меня неприемлемым. И я могу привести иллюстрацию того, как мать противостоит своей дочери-подростку однажды ночью, а следующей ночью точно так же противостоит своему сыну-подростку, и покажу вам, почему здесь есть огромная разница.
Джим: Ну, давай, послушаем.
Д-р Эггерихс: Что ж, предположим, она… Во вторник вечером она расстроена из-за своей 13-летней дочери, и у нее есть 14-летний мальчик, и она приходит, и она просто словесно врывается к дочери и все они ходят туда-сюда друг на друга. А потом вы увидите, через несколько минут, они оба будут лежать на кровати, скрестив ноги, и будут излучать негатив. И- и тогда дочери говорят: «Прости, мама. Я не должен был этого говорить». Ну, нет, милая, прости. Я был вне очереди. Я… ты простишь меня? Я не должен был говорить так, как сказал. Ну да, мама, я тебя прощаю. Но ты забыл- Да, дорогая. Потом они будут обниматься, плакать… вытирать свои слезы, а потом, как только они заметят, они скажут что-то, они начнут смеяться, и они будут обниматься, и они будут в порядке до следующего эпизода, и они сделают это. опять таки. Следующей ночью она противостоит своему мальчику по тому же поводу, мальчику-подростку, и она подходит к нему, а он просто замолкает, отстраняется и выглядит сердитым. И что тогда она делает? Она проявляет неуважение, чтобы достучаться до него, пока не видит слезы в его глазах. И этих слез нет, потому что он, наконец, чувствует ее боль, он как будто думает: «Моя мама находит меня отвратительным. И хотя я знаю, что мама любит меня, я не думаю, что я ей нравлюсь». И особенно когда он переходит в подростковый возраст, когда она может обнаружить некоторые вещи, которые стыдят его, теперь он фильтрует большую часть ее поведения через те эпизоды, за которые ему стыдно.
И что тогда она делает? Она проявляет неуважение, чтобы достучаться до него, пока не видит слезы в его глазах. И этих слез нет, потому что он, наконец, чувствует ее боль, он как будто думает: «Моя мама находит меня отвратительным. И хотя я знаю, что мама любит меня, я не думаю, что я ей нравлюсь». И особенно когда он переходит в подростковый возраст, когда она может обнаружить некоторые вещи, которые стыдят его, теперь он фильтрует большую часть ее поведения через те эпизоды, за которые ему стыдно.
Джим: Скажи мне, что этот мальчик-подросток, помимо того, что ты только что описал, как этот стыд, э-э, наносит серьезный ущерб тому мальчику, который затем становится мужчиной? Каков продолжительный эффект этого стыда?
Д-р Эггерихс: Ну, я всегда осторожен в этом, ммм, отвечая на это, потому что опять же, я не хочу, чтобы эта мать чувствовала, что она навредила своим детям. Матери очень любящие, очень заботливые, очень заботливые, и они глубоко заботятся. И очень быстро идут к тому, что я погубила сына, погубила семью, погубила рай, если могла, погубила все. Я ужасен, я гнилой. Вот что она начинает чувствовать. Так что я… нужно очень много, чтобы действительно заставить мальчика глубоко стыдиться. Итак, что я хочу сделать, это педаль назад. Но если каждую неделю вы врываетесь в него в течение 10-летнего периода и в основном выражаете отвращение… Я только что получил электронное письмо, и мы получаем все эти электронные письма, мать-одиночка, которая усыновила нескольких детей, и ее сын очень хорош в математике, но у него был процентиль 65, и она увидела табель успеваемости и сказала по дороге домой: «Я была в…» Она сказала: «Я знала, сколько слов я собиралась использовать, чтобы заставить его получить его оценки выше». Но она только что слушала аудио на Мать и сын: эффект уважения и вот она вошла и сказала: «Сын, я не понимаю, что здесь происходит, я не хочу позорить тебя, я не хочу проявлять неуважение, но можете ли вы объяснить мне, почему у вас есть такие большие способности и почему у вас здесь 65%? Можете ли вы помочь мне понять это? Потому что мне не приятно, но я не пытаюсь сейчас опозорить тебя, а расстроен, потому что жду от тебя большего».
И очень быстро идут к тому, что я погубила сына, погубила семью, погубила рай, если могла, погубила все. Я ужасен, я гнилой. Вот что она начинает чувствовать. Так что я… нужно очень много, чтобы действительно заставить мальчика глубоко стыдиться. Итак, что я хочу сделать, это педаль назад. Но если каждую неделю вы врываетесь в него в течение 10-летнего периода и в основном выражаете отвращение… Я только что получил электронное письмо, и мы получаем все эти электронные письма, мать-одиночка, которая усыновила нескольких детей, и ее сын очень хорош в математике, но у него был процентиль 65, и она увидела табель успеваемости и сказала по дороге домой: «Я была в…» Она сказала: «Я знала, сколько слов я собиралась использовать, чтобы заставить его получить его оценки выше». Но она только что слушала аудио на Мать и сын: эффект уважения и вот она вошла и сказала: «Сын, я не понимаю, что здесь происходит, я не хочу позорить тебя, я не хочу проявлять неуважение, но можете ли вы объяснить мне, почему у вас есть такие большие способности и почему у вас здесь 65%? Можете ли вы помочь мне понять это? Потому что мне не приятно, но я не пытаюсь сейчас опозорить тебя, а расстроен, потому что жду от тебя большего». Он посмотрел на нее и сказал: «Я позабочусь об этом, мама». А она говорит, что он учился и довел свои оценки до 95%. И она сказала: «У нас не было крика, слез и сожаления», крика, который был ей, его слезам, а затем ее сожалению. Криков, слез и сожалений мы не испытали. И она сказала: «Я была совершенно поражена, когда использовала словарное слово:« Я не пытаюсь оскорбить вас, я не пытаюсь опозорить вас. Я верю в тебя; Я этого не понимаю. Вы можете это решить?» И она сказала, что на этом все кончено. Но в том-то и дело, что есть матери-одиночки, а также обычные матери, у которых есть отец, но они делают такие вещи неделю за неделей по отношению к своему мальчику, потому что он не играет, поэтому они чувствуют себя они должны поднять неуважение, они должны поднять презрение. И через какое-то время он просто закроется, прежде чем, вероятно, начнет чувствовать стыд.
Он посмотрел на нее и сказал: «Я позабочусь об этом, мама». А она говорит, что он учился и довел свои оценки до 95%. И она сказала: «У нас не было крика, слез и сожаления», крика, который был ей, его слезам, а затем ее сожалению. Криков, слез и сожалений мы не испытали. И она сказала: «Я была совершенно поражена, когда использовала словарное слово:« Я не пытаюсь оскорбить вас, я не пытаюсь опозорить вас. Я верю в тебя; Я этого не понимаю. Вы можете это решить?» И она сказала, что на этом все кончено. Но в том-то и дело, что есть матери-одиночки, а также обычные матери, у которых есть отец, но они делают такие вещи неделю за неделей по отношению к своему мальчику, потому что он не играет, поэтому они чувствуют себя они должны поднять неуважение, они должны поднять презрение. И через какое-то время он просто закроется, прежде чем, вероятно, начнет чувствовать стыд.
Джим: И во многих отношениях, что вы делаете с таким подходом, так это поднимаете планку еще выше и заставляете их чувствовать себя еще более неудачниками, что они не могут ее достичь. А так подход мне нравится. Мне нравится мысль возложить на них ответственность, это то, что ценят мужчины, это то, чему мальчики должны учиться, и они будут тянуться к этому. Это то, что вы говорите.
А так подход мне нравится. Мне нравится мысль возложить на них ответственность, это то, что ценят мужчины, это то, чему мальчики должны учиться, и они будут тянуться к этому. Это то, что вы говорите.
Д-р Эггерихс: Очень хорошо. И мы знаем, что в браке вся шутка в том, что женщины, как правило, ориентированы на эмпатию, а мужчины ориентированы на решение.
Джим: Ага.
Д-р Эггерихс: Мужчины думают о решении, они пытаются помочь, решая его. Ну, вы можете изменить это со своим сыном и спросить его, как он собирается решить эту проблему? Обратитесь к нему, чтобы решить проблему. Вы честный молодой человек, это неприемлемо, я уверен и для вас, и для меня, как вы можете решить это?
Джим: Ага.
Д-р Эггерихс: Вместо того, чтобы просить его решить ее, спросите его и посмотрите, что произойдет.
Джим: Верно. И- а потом отступите, дайте ему-
Д-р Эггерихс: Позвольте- позвольте.
Джим: Эм, Эмерсон, ты говоришь об этом сумасшедшем цикле. Э-э, вы говорите об этом в браке с любовью и уважением, вы принесли эту вещь, вы описываете ее. Я не знаю, использовали ли вы этот термин, но убедитесь, что мы понимаем словарь сумасшедшего цикла.
Доктор Эггерихс: Правильно, правильно.
Джим: Вы описали это с мамой и дочерью-подростком, что они в порядке до следующего извержения. Это сумасшедший цикл, верно?
Д-р Эггерихс: Ну, сумасшедший круговорот между мужем и жизнью, о котором мы говорим, без любви, она реагирует так, что чувствует к нему неуважение. Она не пытается быть такой, вот как он обрабатывает этот конфликт. Когда мужчина чувствует неуважение, он в конечном итоге реагирует так, что кажется ей нелюбящим, как каменная стена, отстранение. И такая же динамика происходит между матерью и ее сыном. Они не женаты, но это мужская, женская проблема, которая намного выше, чем проблема мужа и жены. И по мере того, как этот мальчик взрослеет, матери и сыновья попадают в этот сумасшедший цикл, и мы обучаем матерей тому, как вы можете выйти из этого гораздо быстрее.
И по мере того, как этот мальчик взрослеет, матери и сыновья попадают в этот сумасшедший цикл, и мы обучаем матерей тому, как вы можете выйти из этого гораздо быстрее.
Джон: Это фокус на семье, и нашим сегодняшним гостем является доктор Эмерсон Эггерикс. И мы всегда ценим его присутствие и мудрость, которой он делится. Его великая книга называется « Мать и сын: эффект уважения ». И вы найдете это, а также компакт-диск или загрузите нашу беседу на focusonthefamily.com/broadcast. Или позвоните по номеру 800, буква А и слово СЕМЬЯ. 800-232-6459. Продолжим разговор с Эмерсоном Эггериксом.
Джим: Эмерсон, ты упомянул об этом уважительном разговоре туда-сюда. Как вы думаете, почему мамы, женщины так сильно борются с этой концепцией? Я-это корень, что они ищут любви, их язык — любовь, и вы говорите, что ваши сыновья не поймут, что любовь не так важна для них?
Д-р Эггерихс: Что ж, это важно, мальчикам нужна любовь. Они, как правило, уверены в материнской любви. Я имею в виду, ты спрашиваешь мальчика-подростка, любит ли тебя твоя мама? Ах, да. Ну, она.
Они, как правило, уверены в материнской любви. Я имею в виду, ты спрашиваешь мальчика-подростка, любит ли тебя твоя мама? Ах, да. Ну, она.
Джим: Конечно.
Д-р Эггерихс: Да, точно. Как и ты, нет, я ей не нравился прямо сейчас.
Джим: (смеется).
Д-р Эггерихс: Итак, матери скажут: «Я люблю своего сына, но он мне сейчас не нравится».
Джим: Ага.
Д-р Эггерихс: И матери чувствуют себя виноватыми из-за этого. И вот это… и нам нужно уточнить, любовь и уважение не являются синонимами. Вы знаете, мы уважаем нашего босса, но мы не любим его. И знаете, мы любим нашего мальчика-подростка, но не всегда чувствуем к нему уважение. И поэтому они пересекаются, но они не являются синонимами. И на что мы должны обратить внимание, так это на то, что Бог внушил мужчинам потребность в чем-то, чего матери не всегда придерживаются в этой культуре в наше время. Но Бог создал матерей любить, женщин любить любить. Вы должны ранить женщину на уровне близости, чтобы заставить ее разлюбить. Э-э, но она, э-э, эта воспитательница, заботливая, и она просто полна энергии, чтобы любить, она хочет делать это. Но чего она не всегда понимает, так это того, что она может общаться таким образом, что чувствует неуважение к своему мальчику. У нее может быть мотивация заниматься любовью, но это выглядит очень неуважительно, и поэтому она не всегда это замечает. И я не знаю, почему как культура мы не обратили на это более пристального внимания. Вместо этого мы, по-видимому, переложили на мальчика, который закрывается, ответственность за то, что с ним что-то изначально не так, вместо того, чтобы просто отступить на мгновение и спросить, можем ли мы просто сказать несколько вещей по-другому? Так, например, если она действительно расстроена, просто плюется в бешенство и просто… Знаете, я говорю, вам не нужно становиться роботом или механическим образом, вы должны быть самим собой.
Но Бог создал матерей любить, женщин любить любить. Вы должны ранить женщину на уровне близости, чтобы заставить ее разлюбить. Э-э, но она, э-э, эта воспитательница, заботливая, и она просто полна энергии, чтобы любить, она хочет делать это. Но чего она не всегда понимает, так это того, что она может общаться таким образом, что чувствует неуважение к своему мальчику. У нее может быть мотивация заниматься любовью, но это выглядит очень неуважительно, и поэтому она не всегда это замечает. И я не знаю, почему как культура мы не обратили на это более пристального внимания. Вместо этого мы, по-видимому, переложили на мальчика, который закрывается, ответственность за то, что с ним что-то изначально не так, вместо того, чтобы просто отступить на мгновение и спросить, можем ли мы просто сказать несколько вещей по-другому? Так, например, если она действительно расстроена, просто плюется в бешенство и просто… Знаете, я говорю, вам не нужно становиться роботом или механическим образом, вы должны быть самим собой. Но вы говорите: «Я очень расстроен из-за вас прямо сейчас, я не могу поверить, что вы проигнорировали то, что я сказал вам сделать, и я был очень конкретным. И я даже пустил записку. Я не пытаюсь сказать это, чтобы дискредитировать вас или опозорить вас. Я верю в тебя больше, и я думаю, что ты веришь в себя, и я вижу, что ты становишься благородным человеком. Но убей меня, я не могу поверить, почему ты это сделал. Я не уважаю то, что ты сделал, но я уважаю тебя. Теперь нам нужно взять пятиминутный перерыв, потому что я думаю, что убью тебя прямо сейчас, и мы собираемся вернуться и почтительно посетить это место. Звучит как хороший план игры?» Много раз мальчик будет улыбаться. Если он никогда не слышал такой лексики, он действительно посмотрит на маму. И это было бы то же самое, если бы отец сказал: «Я не знаю, как делать это с любовью. Вы знаете, мой отец не любил, и я… я стараюсь быть более любящим, чтобы использовать мою нежную дочь. Я бы умер за тебя. Не могу поверить, что ты здесь сделал.
Но вы говорите: «Я очень расстроен из-за вас прямо сейчас, я не могу поверить, что вы проигнорировали то, что я сказал вам сделать, и я был очень конкретным. И я даже пустил записку. Я не пытаюсь сказать это, чтобы дискредитировать вас или опозорить вас. Я верю в тебя больше, и я думаю, что ты веришь в себя, и я вижу, что ты становишься благородным человеком. Но убей меня, я не могу поверить, почему ты это сделал. Я не уважаю то, что ты сделал, но я уважаю тебя. Теперь нам нужно взять пятиминутный перерыв, потому что я думаю, что убью тебя прямо сейчас, и мы собираемся вернуться и почтительно посетить это место. Звучит как хороший план игры?» Много раз мальчик будет улыбаться. Если он никогда не слышал такой лексики, он действительно посмотрит на маму. И это было бы то же самое, если бы отец сказал: «Я не знаю, как делать это с любовью. Вы знаете, мой отец не любил, и я… я стараюсь быть более любящим, чтобы использовать мою нежную дочь. Я бы умер за тебя. Не могу поверить, что ты здесь сделал. Как мне сделать это с любовью? Я не знаю, как быть такой любящей, какой должна быть. Я чувствую себя ужасно, как человек, который не умеет любить, но я так сошел с ума. Нам нужно взять тайм-аут. Я хочу заняться любовью здесь, но я не знаю, как это сделать, и я так зол». Я имею в виду, что каждая дочь, вероятно, начала бы ухмыляться, если бы он никогда не делал этого раньше.
Как мне сделать это с любовью? Я не знаю, как быть такой любящей, какой должна быть. Я чувствую себя ужасно, как человек, который не умеет любить, но я так сошел с ума. Нам нужно взять тайм-аут. Я хочу заняться любовью здесь, но я не знаю, как это сделать, и я так зол». Я имею в виду, что каждая дочь, вероятно, начала бы ухмыляться, если бы он никогда не делал этого раньше.
Джим: Что так правильно в том, что вы говорите, так это то, что вы утверждаете ребенка как личность, созданную по образу Божьему, не принимая поведения, с которым вам приходится иметь дело.
Доктор Эггерихс: Всегда. Мы не уважаем плохое поведение, это глупо.
Джим: (смеется).
Д-р Эггерихс: Нам не нравится, ммм, неприемлемое поведение, но мы с любовью и уважением противостоим этому поведению.
Джон: E- даже когда вы просматриваете такой сценарий того, как это может быть Эмерсон, мальчик действительно слышит, как мама говорит, как вы только что, и думает, что она уважает меня? Потому что я имею в виду, что тон того, что ты сказал, может быть воспринят некоторыми как намек на то, что она действительно ненавидит меня прямо сейчас. Я просто разрушил свою жизнь.
Я просто разрушил свою жизнь.
Д-р Эггерихс: Да, может быть. Но по моему опыту нет, то же самое с футбольным тренером, который безумно сидит в раздевалке-
Джим: (Неразборчиво).0007
Д-р Эггерихс: … что мы отстаем на 14 очков, я ожидаю большего от вас, ребята, вы, ребята, величайшие спортсмены, которых я когда-либо тренировал, я не могу поверить, где мы сейчас находимся. Но знаете ли… Мальчики вдруг думают: «О, тренер нас ненавидит». Итак, опять же, словарный запас — вот почему это так интересно. И дело в том, что матери не должны внезапно становиться теми, кем они не являются. Вам просто нужно добавить несколько словарных слов, о которых я говорю, чтобы он знал, что настоящая причина, по которой вы противостоите ему, заключается в поведении, а не в том, что вы используете эту тему как еще одну возможность отправить сообщение, которое вы нашли. он презренный как человек, потому что это то, что он чувствует, особенно если он потерпел неудачу или чувствует себя неадекватным.
Джим: Ага.
Д-р Эггерихс: И нам нужно процитировать исследование Шонти Фельдхан о 400 американских мужчинах, которое провел аналитик по принятию решений из Хьюстона, и они провели его снова, потому что они были поражены статистикой. И Шунти позвонила мне и сказала: «Эй, вот один из вопросов, которые я хотел бы включить. Думаешь, мне стоит это сделать?» И я сказал: «Абсолютно». И вопрос заключался в следующем: вы, мужчины, предпочли бы остаться в одиночестве и нелюбимыми в этом мире или все считали бы вас неадекватными и неуважаемыми? Почти 75% мужчин заявили, что предпочли бы, чтобы их оставили в покое и не любили в мире. Поэтому мы должны воздержаться от этого сообщения. Не говорите мужчине: «Ты неадекват как человек, и я не уважаю тебя из-за этого». Вы можете сказать: «То, что ты сделал, было неадекватным, и я не уважаю то, что ты сделал». Но такое поведение недостойно того, кем я действительно считаю тебя. Просто такой способ сказать, что он может взять эти отношения и полностью изменить их.
Джим: Что ж, давайте раскроем некоторые словарные слова, о которых вы говорите. И вы сделали кое-что из этого, но какие из этих модных словечек маме следует воздержаться от использования и, возможно, вычеркнуть из своего лексикона, когда… когда дело доходит до общения с вашим сыном?
Д-р Эггерихс: Ну, я имею в виду, как мы сказали бы, ни один отец не должен использовать словарный запас, предполагающий, что он ненавидит свою дочь, верно? Я имею в виду, есть ли какое-нибудь словарное слово, которое папа может использовать, чтобы предположить, что эта дочь услышит, что ты действительно меня ненавидишь? И если есть какое-то сообщение, которое он посылает, то это оно. Так что матери просто нужно отступить, есть ли какое-нибудь словарное слово, которое я использую, чтобы заставить моего сына думать, что я не уважаю его, что я презираю его, что я презираю то, кем он является, что я находите его неприемлемым как человека, что он меньше, чем должен быть?
Джим: Ага.
Д-р Эггерихс: Гм, и это те слова, от которых нам нужно воздержаться. Но я по-прежнему очень благосклонен к матери, которая дуется, когда она возвращается и говорит: «Послушай, я не пытался обесчестить твое сердце. Ты создан по образу Божьему, и я верю в тебя, сынок. И поэтому я так расстроен. Иногда мне кажется, что ты не веришь в себя так сильно, как я верю в тебя».
Джим: Ага, да, это хорошо.
Д-р Эггерихс: Видите, вот как вы восстанавливаетесь.
Джим: Бесчисленное количество мам свяжется здесь с Фокусом на Семье. Я имею в виду, что мы часто получаем это, и они в основном говорят: «Послушайте, мой сын должен заслужить мое уважение».
Доктор Эггерихс: М-м-м.
Джим: Эм, опиши эту среду и правильно ли то, что она говорит, или это то, что ты даешь, ты не зарабатываешь, это то, что твой сын заслуживает от тебя, даже если он ведет себя неподобающим образом?
Доктор Эггерихс: Это культурное учение о том, что уважение нужно заслужить, уважение нужно заслужить. А если они этого не заслужили, то они этого не заслужили, и я не собираюсь их давать. И я всегда говорю, что это понятно, мы все это чувствуем. Было бы лучше сказать, что мы каким-то образом зарабатываем уважение своим поведением, если мы, как вы знаете, преуспеваем, вы знаете, нас чтят, нас чтят за то, что мы делаем, так что в этом есть компонент производительности, который все из нас согласились бы с. Однако давайте просто задумаемся на мгновение. Так что теперь ваш сын не зарабатывает… не зарабатывает, не заслужил. Какова логика этого? Куда ты собираешься пойти с этим? Так что теперь ты скажешь, что он заслуживает твоего неуважения, он заслуживает твоего презрения, он заслуживает того, чтобы ты назвал его презренным, он заслуживает того, чтобы ты назвал его неадекватным. Так что, если вы доведете это до логического завершения, то вы скажете, что я могу целый день проявлять к нему презрение, потому что он этого не заслуживает. И я хочу сказать, что это одна из самых больших ошибок, которые мы можем совершить с любым человеком, потому что ни один человек не реагирует на презрение.
А если они этого не заслужили, то они этого не заслужили, и я не собираюсь их давать. И я всегда говорю, что это понятно, мы все это чувствуем. Было бы лучше сказать, что мы каким-то образом зарабатываем уважение своим поведением, если мы, как вы знаете, преуспеваем, вы знаете, нас чтят, нас чтят за то, что мы делаем, так что в этом есть компонент производительности, который все из нас согласились бы с. Однако давайте просто задумаемся на мгновение. Так что теперь ваш сын не зарабатывает… не зарабатывает, не заслужил. Какова логика этого? Куда ты собираешься пойти с этим? Так что теперь ты скажешь, что он заслуживает твоего неуважения, он заслуживает твоего презрения, он заслуживает того, чтобы ты назвал его презренным, он заслуживает того, чтобы ты назвал его неадекватным. Так что, если вы доведете это до логического завершения, то вы скажете, что я могу целый день проявлять к нему презрение, потому что он этого не заслуживает. И я хочу сказать, что это одна из самых больших ошибок, которые мы можем совершить с любым человеком, потому что ни один человек не реагирует на презрение. Так что матери в основном говорят, что я не чувствую к нему такого уважения из-за его плохого поведения. Это правильно. Мы не просим вас чувствовать уважение, мы просим вас уважительно противостоять тому, что он сделал, что неуважительно. Потому что если вы этого не сделаете, если вы проявите презрение к его духу, это то же самое, что отец, проявляющий резкость и гнев по отношению к своей дочери, потому что она не работает на том уровне, на котором он хочет, а из-за его резкости и гнева, она начинает, знаете ли, выступать на том уровне, на котором он хочет. Но ты потеряешь ее сердце и потеряешь сердце своего сына, если продолжишь проявлять презрение. Итак, мы должны говорить о том, что безусловное уважение равно безусловной любви. И о чем мы говорим? Бог призывает мужа любить свою жену безусловно. Это не значит, дорогая, знаешь, я знаю, что ты прелюбодействуешь с соседями, так что просто продолжай, потому что я собираюсь показать тебе, что моя любовь безусловна. Мы говорим, что это глупо.
Так что матери в основном говорят, что я не чувствую к нему такого уважения из-за его плохого поведения. Это правильно. Мы не просим вас чувствовать уважение, мы просим вас уважительно противостоять тому, что он сделал, что неуважительно. Потому что если вы этого не сделаете, если вы проявите презрение к его духу, это то же самое, что отец, проявляющий резкость и гнев по отношению к своей дочери, потому что она не работает на том уровне, на котором он хочет, а из-за его резкости и гнева, она начинает, знаете ли, выступать на том уровне, на котором он хочет. Но ты потеряешь ее сердце и потеряешь сердце своего сына, если продолжишь проявлять презрение. Итак, мы должны говорить о том, что безусловное уважение равно безусловной любви. И о чем мы говорим? Бог призывает мужа любить свою жену безусловно. Это не значит, дорогая, знаешь, я знаю, что ты прелюбодействуешь с соседями, так что просто продолжай, потому что я собираюсь показать тебе, что моя любовь безусловна. Мы говорим, что это глупо. Безусловная не означает, что вы даете другому человеку право делать то, что он хочет, безусловная любовь означает, что нет ситуации, никаких обстоятельств, никаких условий, которые могут заставить меня когда-либо ненавидеть вас. Я люблю тебя. То, что ты делаешь, неприемлемо, но ты никогда не сделаешь ничего такого, что заставило бы меня ненавидеть тебя. Безусловное уважение — это оксюморон. Мы все понимаем безусловную любовь, но это противоречие терминов, когда вы говорите о безусловном уважении. Но безусловное уважение означает, что вы говорите своему мужу, вы говорите любому человеку, вы говорите… Это не значит, что это легко, это просто означает, что это правда. Вы ничего не можете сделать, нет условий, нет ситуации, нет обстоятельств, которые могли бы заставить меня показать вам презрение к тому, кто вы есть как человеческое существо. Почему? Потому что я такой, какой я есть. Дело не в том, кем вы не можете быть как личность. Я буду любящей душой, независимо от того, милый ты или нет.
Безусловная не означает, что вы даете другому человеку право делать то, что он хочет, безусловная любовь означает, что нет ситуации, никаких обстоятельств, никаких условий, которые могут заставить меня когда-либо ненавидеть вас. Я люблю тебя. То, что ты делаешь, неприемлемо, но ты никогда не сделаешь ничего такого, что заставило бы меня ненавидеть тебя. Безусловное уважение — это оксюморон. Мы все понимаем безусловную любовь, но это противоречие терминов, когда вы говорите о безусловном уважении. Но безусловное уважение означает, что вы говорите своему мужу, вы говорите любому человеку, вы говорите… Это не значит, что это легко, это просто означает, что это правда. Вы ничего не можете сделать, нет условий, нет ситуации, нет обстоятельств, которые могли бы заставить меня показать вам презрение к тому, кто вы есть как человеческое существо. Почему? Потому что я такой, какой я есть. Дело не в том, кем вы не можете быть как личность. Я буду любящей душой, независимо от того, милый ты или нет. Я буду уважительным человеком как мать, я буду достойной женщиной, которая общается уважительно, даже несмотря на то, что то, что ты сделала, неуважительно.
Я буду уважительным человеком как мать, я буду достойной женщиной, которая общается уважительно, даже несмотря на то, что то, что ты сделала, неуважительно.
Джон: Так что же делать маме, которая чувствует, что ее сын не заслужил уважения или что он настолько неуважителен, что она не может встретиться с ним там, как она начинает выпутываться из этого?
Д-р Эггерихс: Ну, опять же, вот почему методы, которые она использует, мы спрашиваем, они работают? Видите ли, вот почему я думаю, что так много матерей недовольны своими мальчиками, и последствия этого ошеломляют. Так что я здесь не для того, чтобы сказать, что то, как она подходит к этому, может быть совершенно неправильным, потому что я не могу говорить во всех ситуациях. Но если ее сын отдаляется от нее, и она это знает, а женщины интуитивно это понимают, то просто попробуйте это. Эээ, не делайте это как теорию. Я верю Богу и Его слову, и лучшие исследования указывают на то, что это удовлетворение потребности другого человека, удовлетворение потребности вашего сына, и вы не теряете силы. И одним из первых вопросов большинство матерей говорят: «Ну, мне нужно, чтобы он меня уважал». Да, честь отца и матери. И я написал 300 страниц в Love & Respect Family книга, посвященная этому, и все о том, как заставить сына почитать и уважать вас. Но с другой стороны, вы должны понимать, что если вы ожидаете, что он будет уважать вас, то вы не можете опозорить его, чтобы мотивировать его уважать вас. И что значит тогда как мать уважительно и почтительно вести себя как образец того, чего вы ожидаете, и обращать внимание на невинность, с которой вы сталкиваетесь в этих жестах презрения? Потому что я говорю, что если вы представите в ложном свете свое сокровенное сердце, он исказит ваше самое сокровенное сердце.
И одним из первых вопросов большинство матерей говорят: «Ну, мне нужно, чтобы он меня уважал». Да, честь отца и матери. И я написал 300 страниц в Love & Respect Family книга, посвященная этому, и все о том, как заставить сына почитать и уважать вас. Но с другой стороны, вы должны понимать, что если вы ожидаете, что он будет уважать вас, то вы не можете опозорить его, чтобы мотивировать его уважать вас. И что значит тогда как мать уважительно и почтительно вести себя как образец того, чего вы ожидаете, и обращать внимание на невинность, с которой вы сталкиваетесь в этих жестах презрения? Потому что я говорю, что если вы представите в ложном свете свое сокровенное сердце, он исказит ваше самое сокровенное сердце.
Джон: Так что, вероятно, это хорошая идея, чтобы остановить цикл, когда вы не в нем, верно? Я имею в виду быть активным в этом.
Д-р Эггерихс: Я думаю, что мы с Сарой попадаем в сумасшедший цикл в нашем браке, и мы должны, о-о, мы попадаем в этот сумасшедший цикл. Вы должны, по крайней мере, определить, что здесь происходит, чтобы вы могли объявить тайм-аут, как я сделал с той матерью, вы знаете, говоря: «Давай возьмем здесь время». Потому что иначе вы вдруг поймете, что проблема больше не проблема. И в этом проблема. Как только мы дойдем до того момента, когда ваш дух матери сдуется, а его дух сдуется, вы, вероятно, окажетесь в этом сумасшедшем цикле. Вы чувствуете себя нелюбимой и неуважительной, теперь вы будете реагировать таким образом, что, вероятно, почувствуете неуважение к нему. И когда он почувствует себя обиженным в детстве, он отреагирует так, что вам покажется нелюбящим. И он, вероятно, просто отключится, потому что так он защищает себя. Он не пытается проявить неуважение к вам, он охраняет свое сердце.
Вы должны, по крайней мере, определить, что здесь происходит, чтобы вы могли объявить тайм-аут, как я сделал с той матерью, вы знаете, говоря: «Давай возьмем здесь время». Потому что иначе вы вдруг поймете, что проблема больше не проблема. И в этом проблема. Как только мы дойдем до того момента, когда ваш дух матери сдуется, а его дух сдуется, вы, вероятно, окажетесь в этом сумасшедшем цикле. Вы чувствуете себя нелюбимой и неуважительной, теперь вы будете реагировать таким образом, что, вероятно, почувствуете неуважение к нему. И когда он почувствует себя обиженным в детстве, он отреагирует так, что вам покажется нелюбящим. И он, вероятно, просто отключится, потому что так он защищает себя. Он не пытается проявить неуважение к вам, он охраняет свое сердце.
Джим: М-м-м. И вы хотите выбраться из этого сумасшедшего круга, потому что ущерб в долгосрочной перспективе будет тяжелым. И именно поэтому мы говорим об этом сегодня, Эмерсон (смеется). Чувак, это пролетело мимо, э-э, из-за, э-э, я думаю, интерес здесь… Я имею в виду, что мы трое парней говорим об этом, но я думаю, что многие, многие мамы наклонились, чтобы сказать: «Помогите мне сделать это лучше». ».
».
Д-р Эггерихс: Да.
Джим: Я чувствую.
Доктор Эггерихс: Да.
Джим: И э-э, нам нужно продолжать и э-э, вернуться в следующий раз и поговорить больше об этой великой работе, которую вы создали, Мать и сын: Эффект уважения . Э-э, вы подключились к тому, что я считаю духовной истиной здесь с посланием любви и уважения прямо из Послания к Ефесянам. У вас есть это, и теперь вы применяете это к родительской роли, и я думаю, что это правильно в деньгах. Так что это было здорово. Давайте вернемся, обсудим это в следующий раз. Мы можем сделать это?
Доктор Эггерихс: С любовью.
Джон: Мы пригласим вас получить копию книги Эмерсона Эггерикса Мать и сын: эффект уважения , когда вы свяжетесь с нами здесь, в Focus on the Family. Кроме того, у нас также есть компакт-диск или загрузка этой программы, чтобы прослушать ее снова или поделиться ею с другими, а дополнительные советы по воспитанию всегда доступны. Наш номер 800, буква А и слово СЕМЬЯ. 800-232-6459 или зайдите на focusonthefamily.com/broadcast. И у нас также есть ссылка на бесплатную оценку родителей. Э-э, это так полезно, не забудьте потратить несколько минут и проверить это.
Наш номер 800, буква А и слово СЕМЬЯ. 800-232-6459 или зайдите на focusonthefamily.com/broadcast. И у нас также есть ссылка на бесплатную оценку родителей. Э-э, это так полезно, не забудьте потратить несколько минут и проверить это.
Джим: И Джон, я хочу попросить наших друзей поддержать это служение. Это приглашение стать его частью. И нам нужно ваше партнерство, чтобы помочь нам служить родителям каждый день через нашу трансляцию, подкаст, журналы, консультации и многое другое. С подарком на любую сумму мы скажем спасибо, отправив вам копию Мать и сын: эффект уважения .
Джон: Присоединяйтесь к команде поддержки, сделайте пожертвование, сколько сможете, и запросите эту книгу, набрав 800, букву А и слово СЕМЬЯ. Что ж, спасибо, что присоединились к нам сегодня в программе «В центре внимания — семья». От имени Джима Дейли и всей команды я, Джон Фуллер, приглашаю вас вернуться завтра. Мы еще услышим от доктора Эмерсона Эггерикса, поскольку мы снова помогаем вам и вашей семье преуспевать во Христе.
Лучший совет, который когда-либо дала мне моя мама
В настоящее время я беременна моим первым ребенком. Я тревожный человек, и я беспокоился о бесчисленном количестве вещей: Будет ли наш ребенок здоров? Есть ли у нас все необходимое для детской? Безопасна ли детская кроватка, которую мы хотим купить? Буду ли я хорошей мамой?
Это последнее беспокойство в последнее время не дает мне покоя. Воспитание детей — сложная, сложная задача, и ни один родитель не идеален. Но я хочу подготовить себя к тому, чтобы стать лучшей мамой, какой только могу быть. Поэтому я провел небольшое исследование.
В честь Дня матери я попросил разных людей поделиться лучшим советом, который они когда-либо получали от своей мамы или материнской фигуры в их жизни.
***
«Один из моих любимых советов, которые когда-либо давала мне мама, звучит так: прислушивайся к совету человека, которому нечего терять или получать от твоего решения».
— Шарлин Базарян; адвокат; Рединг, Массачусетс
«Всегда готовьтесь заранее. Дайте себе достаточно времени, чтобы у вас был душевный покой и вам не нужно было спешить».
Дайте себе достаточно времени, чтобы у вас был душевный покой и вам не нужно было спешить».
— Хизер Уоткинс; защитник прав инвалидов; Boston
«Лучший совет, который когда-либо давала мне мама, — никогда не оглядываться назад, потому что жизнь движется только вперед. Как человек с тревожными расстройствами, я часто застреваю в прошлом. Всякий раз, когда я застреваю в колее, я думаю о том, что всегда говорила мне моя мама, и я могу продолжать двигаться вперед и не зацикливаться на прошлом».
— Цветы Коларова; студент социальной работы; Торонто
«Единственное, что моя мама внушала мне, это хорошая осанка. Она постоянно говорила мне сидеть прямо за обеденным столом и не сутулиться стоя. В подростковом возрасте это очень раздражало. Но с тех пор я бесчисленное количество раз благодарила маму за этот урок.
«Кажется, это такая мелочь, но это не так. Я читал, что хорошая осанка делает вас более уверенным в себе и привлекательным, а также дает невербальные подсказки другим, что вы уверены в себе и сильны».
— Кэтлин Оуэнс; финансовый консультант; Хилтон-Хед, Южная Каролина
«Поскольку это ее первый День матери в качестве молодой мамы, я должен отдать должное моей прекрасной жене Лорен за ее постоянное заверение в том, что на нашем пути отцовства это нормально, что мы не все ответы и ошибки неизбежны.
«Как она скажет: «Мы даже не знаем того, чего не знаем». Регулярное напоминание об этом приносит мне огромное облегчение, потому что я склонен заставлять себя делать все идеально, когда это необходимо нашей 3-х месячной девочке.
«Она держит меня в равновесии и помня, что это марафон, а не спринт, и самое главное — быть любящим и терпеливым не только с дочерью, но и с собой».
— Джош Эллис; главный редактор журнала УСПЕХ; Даллас
«Самый лучший совет, который когда-либо давала мне моя мама, заключался в том, что нет причин никому ревновать. Она сказала: «У тебя две руки и мозг. Если вы хотите что-то, что есть у кого-то другого, идите и получите это сами». Вот как я живу».
Вот как я живу».
— Илена Ди Торо; владелец малого бизнеса; Филадельфия
» Когда я был ребенком, у нас на заднем дворе был бассейн. Однажды я получил травму, выполняя трюк в воде. Это был всего лишь синяк, но я решил, что на сегодня мне конец. Моя мама остановила меня. Она сказала мне сделать это снова. — Я слишком напуган, — сказал я ей. «Я сделаю это завтра».
«Нет, — сказала мама, — тебе нужно сделать это сегодня потому что ты боишься. Если вы подождете до завтра или какого-нибудь другого дня, чувство страха усилится. И как только он станет больше, тебе будет труднее сделать это снова».
«Я никогда не забуду этот совет. Чем больше мы колеблемся из-за чего-то, тем больше оно становится. Но именно поэтому вы должны сделать это снова. Делайте это сразу и не давайте своему мозгу возможности превратить спотыкание в неудачу».
— Джандра Саттон; автор; Нэшвилл, Теннесси
«Я всегда любил свою маму, и она всегда была моим лучшим другом. Я знаю, что недостаточно ценила ее, пока сама не стала мамой.
Я знаю, что недостаточно ценила ее, пока сама не стала мамой.
«Когда моему первому ребенку было 10 дней, моя мама нашла меня спрятавшейся в шкафу, плачущей от усталости от того, что я молодая мама. Она приняла меня с сочувствием друга и матери. Она сказала мне, что я могу это сделать, потому что я должен. Это может показаться жесткой любовью, но это именно то, что мне нужно было услышать.
«Как матери, мы много работаем, чтобы заботиться о наших детях и удовлетворять их потребности. Это часто остается незамеченным, потому что вы не всегда видите, как мамы прячутся в своих шкафах и плачут от боли, пытаясь быть всем. Вместо этого мы просто делаем это и поддерживаем всех замечательных мам!»
— Лорен Кэннон; УСПЕХ старший цифровой директор; Даллас
«Каждый раз, когда в детстве я был в эмоциональной спирали, моя мать говорила мне: «Не подпитывай страхи». Это служит напоминанием о том, что у нас есть выбор: выбрать подпитывать логику и найти решение или выберите подпитку эмоциями и распутайте».
— Дэрил Эпплтон; психотерапевт; Нью-Йорк
«Я вырос в Индии, и это была совершенно другая социальная платформа. Там быть девушкой было невыгодно. Моя мать всю жизнь давала мне советы, но самое главное, что она сказала мне, это то, что быть девочкой — быть женщиной — это моя самая большая сила, и я должна использовать ее соответствующим образом».
— Манит Чаухан; знаменитый шеф-повар и личность Food Network; Нэшвилл, Теннесси
«Моя мама вкладывает всю душу во все, что делает. Для моих сестер и меня. Для моей семьи. Ее друзья. Даже чужие. Я восхищаюсь ею за многие вещи, но особенно за ее щедрость.
«Я знаю, чем она сейчас занимается, даже не спрашивая: шьет. Она начала, как только возникла необходимость, и с тех пор не останавливалась. Она является частью бригады по производству масок и раздает защитную одежду работникам здравоохранения и службам экстренного реагирования. Она сшила почти 500 масок с начала этой пандемии, и я знаю, что она будет продолжать, пока есть запросы.
«Миссия моей мамы всегда заключалась в том, чтобы помогать другим, и ее бескорыстная преданность делу показала мне, что нет ничего важнее доброты. Наши действия оказывают влияние, и мы все можем изменить жизнь к лучшему, если просто выберем возможность помочь».
— Джессика Лариджани; УСПЕХ директор по цифровому контенту; Даллас
«Самый лучший совет, который когда-либо давала мне моя мать, пришел в виде разговора, который стал руководящим принципом в моей жизни. Я помню, как она говорила мне, что все, чего она желает для меня, — это счастья. Она сказала: «Всегда делай то, что делает тебя по-настоящему счастливым, даже если это идет вразрез с тем, что другие пытаются убедить тебя в том, что это лучше для тебя, потому что это знаешь только ты сам» 9.0007
«Это — наряду с пониманием того, что это нельзя использовать в эгоистичных целях и всегда с учетом благополучия других — помогало мне во многих моментах моей жизни».
— Рэйчел Микинс; доула; Торонто
«Мудрость моей бабушки оказала большое влияние на то, чтобы изменить мое мышление и привести меня к большей уверенности в себе. Один урок, который всегда выделялся для меня, — это любить себя. Ее проницательность помогла мне рассматривать каждую неудачу как опыт обучения и не позволять страху управлять моей жизнью. Хотя физически ее здесь нет, ее решительный дух — один из величайших даров, которые она могла мне подарить».
Один урок, который всегда выделялся для меня, — это любить себя. Ее проницательность помогла мне рассматривать каждую неудачу как опыт обучения и не позволять страху управлять моей жизнью. Хотя физически ее здесь нет, ее решительный дух — один из величайших даров, которые она могла мне подарить».
— Гаррет Хьюз; УСПЕХ директор по цифровому маркетингу; Даллас
«Лучший совет, который когда-либо давала мне мама, заключается в том, что боль + размышления = рост. Жизнь — это путешествие, в котором вы постоянно развиваетесь и становитесь лучшей версией себя. Если мы останемся в своих зонах комфорта и никогда не выйдем за их пределы, мы никогда не будем жить по-настоящему. Мы созданы для того, чтобы познавать жизнь и мир. Укрываться от страха и цепляться за то, что мы знаем, только тормозит наш рост».
— Алекс Азури; предприниматель; Байрон-Бей, Австралия
«Не беспокойтесь дважды. Вам не нужно беспокоиться о чем-то, что, по вашему мнению, может произойти в будущем — если это произойдет, разберитесь с этим прямо сейчас. А пока просто живите настоящим».
А пока просто живите настоящим».
— Таня Эллиотт; аллерголог/иммунолог; Нью-Йорк
«С тех пор, как я была маленькой девочкой, моя мама рассказывала мне историю о шмеле. Она говорила мне, что шмель был просто пухлым жуком с крошечными крылышками — крылышками, которые были слишком малы, чтобы его удержать, — но, несмотря ни на что, он летал. Она говорила, что он летал, потому что никто никогда не говорил ему, что он не может, а потом говорила мне, что я шмель.
«Сегодня моя мама рассказывает мне ту же историю. История, которая провела меня через каждый этап моей жизни. И поскольку она считала меня шмелем, я тоже».
— Мэдисон Плотт, продюсер мультимедийного контента SUCCESS; Dallas
«Вы довольны собой и своими решениями? В конце концов, вы единственный человек, который у вас есть, несмотря ни на что. Убедитесь, что вы нравитесь себе».
— Лили Нильсен; секретарь; Эврика, Калифорния
«Мама: «Ты никогда не будешь счастлива, пока не осознаешь, что счастлива прямо сейчас». Перевод: Счастье — это перспектива. Если вы ждете, что что-то будет идеальным или таким, как вы планировали, этого никогда не произойдет. Вместо этого сосредоточьтесь на ощущении любви и благодарности вокруг вас».
Перевод: Счастье — это перспектива. Если вы ждете, что что-то будет идеальным или таким, как вы планировали, этого никогда не произойдет. Вместо этого сосредоточьтесь на ощущении любви и благодарности вокруг вас».
— Чарльз МакЭлрой; предприниматель; Цинциннати
«Когда я впервые познаю мир с малышом, это дало мне более глубокую признательность за все, что моя мама сделала для моего воспитания. Ее любовь, самоотверженность и настойчивость ведут меня через этапы материнства. Она научила меня быть бесстрашной и всегда быть лучшей версией себя, качества, которые я хочу передать своим детям.
«Она действительно приносит благословение всем, кого встречает, вдохновляя на доброту и приветствуя их со смиренным сердцем. Ее персонаж навсегда останется наследием, которое я с гордостью буду продолжать, и для меня большая честь быть ее дочерью, и я благодарна за прекрасную жизнь, которую она мне подарила».
—Ингрид Уллоа; УСПЕХ менеджер социальных сетей; Сан-Антонио
«Лучший совет, который я когда-либо получал от мамы, был не в том, что она сказала, а в том, как она живет. Она наслаждается обычными моментами. Моя мама любит потягивать кофе по утрам и говорить о романах, которые мы читаем. Она любит наполнять кормушку для птиц и смотреть, как разные птицы приходят к ней поесть. Моя мама может превратить тарелку попкорна и фильм в самое особенное событие, потому что она получает такое удовольствие от обычных вещей».
Она наслаждается обычными моментами. Моя мама любит потягивать кофе по утрам и говорить о романах, которые мы читаем. Она любит наполнять кормушку для птиц и смотреть, как разные птицы приходят к ней поесть. Моя мама может превратить тарелку попкорна и фильм в самое особенное событие, потому что она получает такое удовольствие от обычных вещей».
— Шерри Ричерт Белул; предприниматель; Сан-Франциско
«Можно подумать, что воспитание девяти детей ежедневно испытывает терпение любой матери. Но моя мама была образцом спокойствия и хладнокровия. Она обладала тихой добротой, искренней заботой, любовью и состраданием к окружающим. Мне хотелось бы думать, что это самые важные уроки, которые она преподала мне, моим братьям и сестре».
— Хью Мерфи; менеджер по маркетингу продуктов УСПЕХ; Даллас
«Совет моей мамы был очень прост: «Всегда что-то будет».
— Дезире Роджерс; бывший социальный секретарь президента Барака Обамы; Чикаго
«Лучший совет, который когда-либо давала мне мама, — быть добрым, особенно перед лицом чьего-то гнева. Она сказала, что доброта создает волновой эффект, который мы часто не видим, и что гнев часто является замаскированным страхом. Лучший способ уравновесить это через доброту».
Она сказала, что доброта создает волновой эффект, который мы часто не видим, и что гнев часто является замаскированным страхом. Лучший способ уравновесить это через доброту».
— Кэт Медина; писатель; Сан-Хосе, Калифорния,
«Лучший совет от моей мамы был: если вы не хотите, чтобы это было опубликовано на первой полосе газеты — не делайте этого. Этот совет помог мне как лично, так и в бизнесе».
— Инеке МакМахон; исполнительный рекрутер; Брисбен, Австралия
«Моя бабушка была особенной женщиной. Я всегда помню, как она читала стихотворение, которое она любила, когда я был ребенком: «Единственные вещи, которые вам нужны в жизни, это: книга, трубка, друг и немного денег, чтобы их потратить» 9.0007
«Она не курила, и я тоже, но урок стихотворения всегда оставался со мной: важно радоваться простым вещам в жизни. Всякий раз, когда я ловлю себя на том, что беспокоюсь о проблемах, которые, как я знаю, незначительны, я вспоминаю это маленькое стихотворение, и оно укрепляет меня».
— Джейми Фридлендер; внештатный писатель; Чикаго
«Моя мама научила меня, что значит любить безоговорочно.
«В детстве я этого не осознавал, но теперь, когда я вырос и работаю полный рабочий день, я в восторге от того, как много моя мама сделала для меня и моих братьев и сестер. Все, что она делала, она делала для своих детей, и она не остановится ни перед чем, чтобы мы были счастливы и здоровы. Она никогда не пропускала ни одного мероприятия. Ни одной игры или сольного концерта. Она всегда была там, намеренно аплодируя громче, чем любая другая мама в толпе, независимо от того, насколько неловко это было для ее детей. Вечером у нас всегда был ужин на столе, а утром чистая одежда. Помимо всего прочего, ей каким-то образом удавалось работать полный рабочий день с начальством, что требовало все больше и больше ее времени.
«Вот я, мне 30 лет, детей нет, работа полный рабочий день и постоянная ежедневная борьба за чистую пару штанов. Хоть убей, я не могу понять, как она все это проделала, не сойдя с ума. Когда я спрашиваю ее, как она это сделала, она всегда отвечает одно и то же: «Я сделаю все для своих детей». Это безусловная любовь. Вот моя мама.»
Когда я спрашиваю ее, как она это сделала, она всегда отвечает одно и то же: «Я сделаю все для своих детей». Это безусловная любовь. Вот моя мама.»
—Блейк Степан; специалист по маркетингу УСПЕХА; Портленд
Читать дальше: 25 цитат ко Дню матери, чтобы выразить свою любовь и признательность
Фото @dbpicado/Twenty20.com
Джейми Фридлендер
Статьи
Джейми Фридлендер — писатель-фрилансер из Чикаго, бывший редактор статей в журнале УСПЕХ . Ее работы были опубликованы в The Cut , VICE, Inc. , The Chicago Tribune и Business Insider 9.0004 , среди других публикаций. Когда она не пишет, ее обычно можно застать за чрезмерным употреблением чая маття, путешествиями в новые места с мужем или серфингом на Etsy до поздней ночи.
Этикет и советы матери жениха
Ваш сын женится. .. но вы, возможно, уже поняли, что быть матерью жениха не всегда легко. Роль матери невесты четко определена, но когда вы мама жениха, она зачастую менее четкая. Вы хотите оказать поддержку и принять участие в планировании свадьбы, но что произойдет, если ваши предложения о помощи будут встречены без особого энтузиазма?
.. но вы, возможно, уже поняли, что быть матерью жениха не всегда легко. Роль матери невесты четко определена, но когда вы мама жениха, она зачастую менее четкая. Вы хотите оказать поддержку и принять участие в планировании свадьбы, но что произойдет, если ваши предложения о помощи будут встречены без особого энтузиазма?
От чувства обделенности в преддверии важного события, до того, что надеть, до танца матери и сына, многие бабушки уже были там и сделали это. Вот их советы, как наслаждаться днем и преодолевать любые мелкие проблемы, которые могут возникнуть.
Получите советы по повседневной жизни и стилю прямо на ваш почтовый ящик0573 «Когда мой сын женился, я почувствовал себя немного обделенным и немного обиделся, потому что я чувствовал, что моя невестка не вовлекает меня. Моя дочь указала, что, возможно, я должен предложить свою помощь — пусть мой невестка знает, что если ей нужно, чтобы я что-то сделал, я был рядом, но не навязывался В конце концов, моя невестка попросила меня сделать несколько мелких вещей, я понял, что сидел назад, просто ожидая обиды, и я думаю, что некоторые женщины делают это довольно часто, вместо того, чтобы просто заговорить». У матери невесты есть множество способов принять участие в захватывающем процессе планирования свадьбы. Охота за платьем, дегустация тортов, девичники, помощь с цветами… Но в качестве матери жениха контрольный список часто немного короче. Тем не менее, вы могли бы предложить свою помощь с такими задачами, как меню и очень хитрый план рассадки — неудобные дополнения, за помощь в которых, несомненно, вы получите огромную благодарность. Вы также, скорее всего, будете стоять рядом с невестой и матерью невесты, чтобы приветствовать гостей, когда они прибудут, что даст вам прекрасную возможность проявить свое обаяние и по-настоящему сиять в большой день вашего сына. Gransnetters признают, что, хотя у них, вероятно, нет реального намерения причинить оскорбление, это все же может быть немного разочаровывающим. Если, скажем, невеста не захотела участвовать в ваших семейных традициях, естественно, вы почувствуете укол боли, потому что то, что ей кажется маленьким, в ваших глазах намного больше. Когда дело доходит до того, что вы не участвуете в планировании, возможно, они не понимают, что вы готовы и желаете вмешаться, и в этом случае вы можете протянуть руку помощи по мере необходимости. Здесь важно общаться — дайте им знать, что вы свободны, и застряньте, когда они поймут, что у них есть еще ярды овсянки, которые нужно сделать, или центральные элементы, которые еще нужно найти! «Наслаждайтесь приготовлениями. Я знаю, что буду. Каждый раз, когда я думаю о моем мальчике, идущем по проходу с этой девушкой, я плачу .» Свекрови (должны признать, с обеих сторон) веками преследовались репутацией боевого топора. Поскольку многие бабушки либо восхваляют партнеров своих сыновей, либо, по крайней мере, ценят их за прекрасных жен, из которых они получаются, мы считаем, что старый образ «злой свекрови» незаслужен и устарел. И если вы обнаружите, что чувствуете себя менее чем милосердным по отношению к своей будущей невестке, потому что подготовка к свадьбе заставила вас чувствовать себя обиженным, помните, что это женщина, которую выбрал ваш сын, и один только этот факт является убедительным мотивом для совершенствования. хорошие отношения с ней и полное наслаждение днем свадьбы. Подпишитесь на Gransnet , чтобы получить дополнительные советы по отношениям «Я стараюсь не давать советов. Будучи ветераном трех предыдущих детских свадеб, я понимаю, что это довольно сложно, но новые жених и невеста должны сделать это чудесно в своем стиле.» Это важно. Возможно, вы планировали и посещали бесчисленное количество свадеб в прошлом, но прежде чем погрузиться в глубины своего кладезя знаний, имейте в виду, что это одна из самых важных вещей, которые когда-либо организуют жених и невеста, и что это их организовать. Часто лучший образ действий — свободно предлагать свою помощь, давать советы, когда их просят, но прикусывать язык в противном случае. Если есть что-то, о чем вы действительно чувствуете, что должны высказать свое мнение, поговорите с сыном тихо, мягко и только один раз, но сделайте это тактично, чтобы не показаться назойливым. Вы можете обнаружить, что если сделать шаг назад, они могут привлечь вас больше, чем вы думали. «Мать жениха заботит только то, что надеть, так как мой повседневный распорядок состоит из джинсов и футболок. У меня даже нет платья». Вы можете быть среди тех, у кого даже нет платья, но пока не вызываете кавалерию. Основные критерии подбора наряда матери жениха таковы: Часто возникает вопрос, какой цвет выбрать. Каков этикет матери жениха, когда дело доходит до выбора цветовой палитры? Короткий ответ: если вы не уверены, что вам не подойдет цветовая гамма или мать невесты, просто спросите. Один или два быстрых телефонных звонка, и вы либо будете иметь право носить именно то, что вам нравится, либо точно будете знать, каких цветов следует избегать. В конце концов, вы же не хотите оказаться в одном костюме Хоббса с матерью невесты ! Хорошие места, где можно найти стильную, но недорогую одежду, включают Jacques Vert , Marks and Spencer и JD Williams . Это также хороший способ познакомиться с матерью невесты, если вы еще этого не сделали. Вы никогда не знаете: вы можете стать лучшими друзьями. «Как мать мужа, я думаю, вам часто приходится ожидать, что вас не заметят, просто пожимаете плечами и продолжаете». Большинство бабушек, которые были матерями жениха, соглашаются с тем, что в этот день легко упустить из виду. Большое внимание уделяется невесте, и, если ее мать все еще рядом, она обычно обращается к ней, чтобы помочь ей подготовиться и успокоить ее нервы. Мужчины, как правило, меньше балуют себя и прихорашиваются, чтобы отметить свой список, поэтому не чувствуйте необходимости просить о какой-либо помощи. Одна вещь, с которой согласны все бабульки, это то, что поднимать шумиху, а иногда даже упоминать что-либо вообще — плохая идея. Хотя исключение может немного обидеть, маловероятно, что невеста намеренно оскорбляет. Да, это гораздо легче сказать, чем сделать, но сделайте глубокий вдох, постарайтесь не принимать это на свой счет и оставайтесь заинтересованными и доступными, если вы будете нужны. «Моя невестка в своей речи поблагодарила всех остальных… всех, кроме меня. Ах, свадебная речь: почва для обид, разочарования и часто скуки, если тесть сжимает микрофон дольше получаса. Не существует надежного способа убедиться, что благодарности включены должным образом, и действительно, никто не должен гарантировать, что их поблагодарят должным образом за их помощь и вклад в такой монументальный день для пары. Это просто дурной тон — исключать кого-то столь же важного, как родитель, особенно если он внес свой вклад в этот день. Однако, если, когда последний бокал будет поднят, вы обнаружите, что ваше имя не фигурировало ни в одной из речей, продолжайте. Звучит резко, но поднимать эту тему перед женихом или невестой — в любой момент — вряд ли получится. После произнесенной речи пути назад нет. Что сделано, то сделано, и лучшее, что вы можете сделать, это пожать плечами и отпустить ситуацию. Желательно на танцполе под Ван Моррисон с бокалом шампанского в руке. 
 Но вместо того, чтобы обижаться на пренебрежительное отношение, которое почти наверняка было совершенно непреднамеренным, постарайтесь держать свои мысли при себе.
Но вместо того, чтобы обижаться на пренебрежительное отношение, которое почти наверняка было совершенно непреднамеренным, постарайтесь держать свои мысли при себе.
2. Потеря стереотипа «свекрови» 
3. Прикусите язык 
4. Наряды матери жениха

5. Чувство обделенности в течение дня

6. Недопущение к выступлениям  Меня даже не упомянули. Я был очень расстроен.»
Меня даже не упомянули. Я был очень расстроен.»
7.


 Приёмное отделение
Приёмное отделение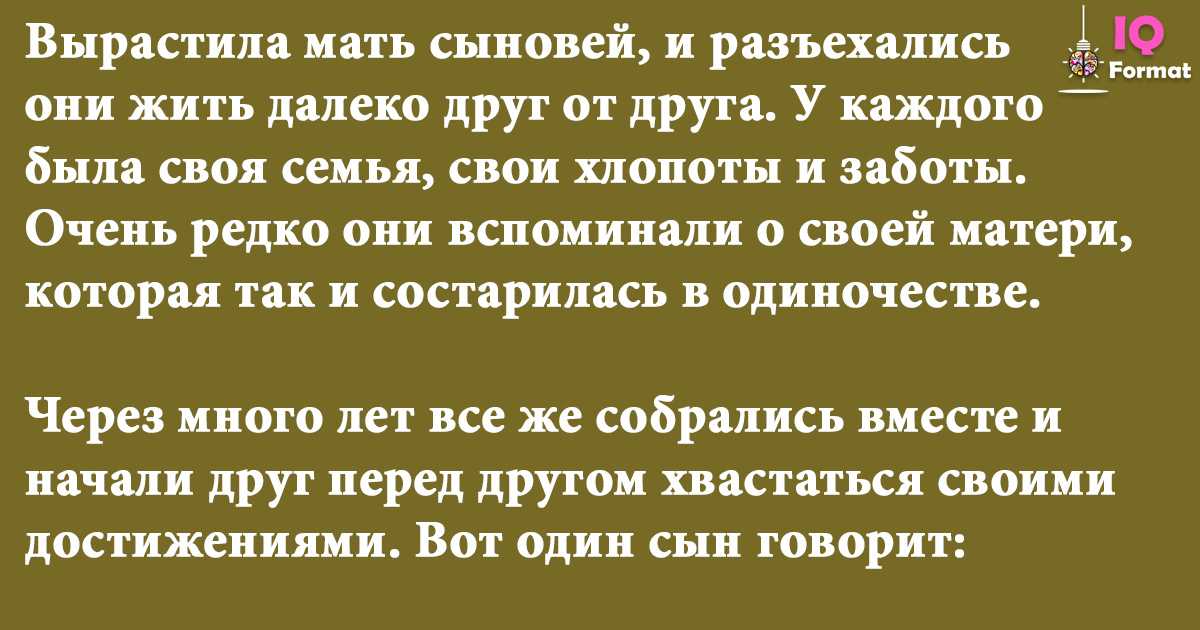 — Центр ЭКО и репродукции
— Центр ЭКО и репродукции